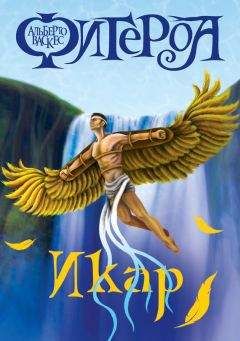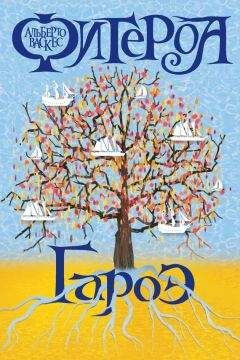Любовь порой расставляет коварные ловушки.
Особенно когда любовь — как в этом случае — была не чем иным, как дружбой в ее самом чистом проявлении.
У Эла Вильямса никогда не было ни жены, ни постоянной любовницы, даже своих родителей он не знал.
Жизнь не дала ему ничего, кроме самого благородного и глубокого чувства, каким можно одарить человека: дружбу с себе подобным, чтобы было с кем разделить радость и горе. Вот почему никакое золото, никакие алмазы не окупили бы потерю такой дружбы.
Он всегда думал, что они вечно будут бродить вслед за несбыточной мечтой.
Легендарное сокровище Руминьяуи, золото реки Напо или алмазы Гвианы превратились в голубую мечту, к которой они все шли и шли, почти уверенные в том, что никогда ее не достигнут.
Важна была не столько цель, сколько то, что они шли одной дорогой.
Но сейчас эта цель плыла с ними.
Дорог больше не было.
Возможно, в конце этой глубокой реки находилось море, на другом краю которого рождались берега Англии.
Конец реке!
Конец сельве!
Конец привычной жизни, которую никто, кроме них, не понимал!
Джон МакКрэкен открыл глаза, проследил за черной уткой, которая сорвалась с высокой ветки и стрелой ушла под воду, и обернулся, чтобы с легкой улыбкой окинуть взглядом человека, находившегося у него за спиной.
— Что ты чувствуешь, став таким богатым? — спросил он.
Он прочитал его мысль.
Как тысячи раз за все эти годы.
Как всегда.
В любое мгновение оба знали без слов, что думает другой, и это не раз спасало им жизнь.
Слова были им не нужны.
Даже жесты или взгляды.
Оба всегда знали, что спросит и что ответит товарищ, хотя это не означало, что они уже все сказали друг другу.
Никто и самому-то себе всего не высказывает, хотя и живет в одном теле и с одной душой девяносто лет.
А они, два тела и две души, знали все вопросы и ответы, но никогда не уставали друг от друга так же, как умный человек никогда не устает от самого себя.
— Мне грустно, — ответил уэльсец. — Подозреваю, что так бывает всякий раз, когда достигаешь цели, которую не ожидал достичь.
— И что же мы теперь будем делать?
— Искать другую цель.
— Где?
— Откуда я знаю!..
Зверей сморил сон.
Птицы клевали носом.
Рыбы спали.
Джон МакКрэкен мерно посапывал.
Дремал и Эл Вильямс.
В жаркие тропические ночи нелегко забыться сном, однако в душный полдень, когда солнце стоит прямо над головой и доводит тебя до изнеможения, так же трудно сохранить ясность сознания.
В такие часы кровь течет в жилах еле-еле, как густой кисель, нервы не сразу передают приказы мозга, а сам мозг реагирует с таким опозданием, словно находится под действием алкоголя.
«Зеленое опьянение» — вот как обычно называют такое состояние почти полного физического изнеможения. Когда влажность становится чуть ли не стопроцентной, температура воздуха поднимается выше тридцати пяти градусов и в легкие проникает густой запах мокрой земли и буйной растительности, дурманя, как легкий наркотик (все из-за пыльцы самых разных растений: ее частицы во множестве витают в воздухе или растворяются в воде), тебя неудержимо клонит в сон.
Это не лень.
Это бессилие.
Человек просто не в состоянии реагировать на опасность, но, к счастью, мудрая природа устроила так, что в этот период даже самый голодный ягуар или ядовитая змея точно так же впадают в летаргию.
В жизни джунглей наступает затишье.
Что-то вроде передышки в жестокой борьбе за выживание.
Мир словно погружается в неподвижность и возвращается к обычному ритму только с наступлением вечера.
Опасности нет.
И все-таки она существует.
Она здесь, рядом, неосязаемая и невидимая, страшнее дикого зверя, потому что это чудовище никогда не дремлет.
Ни ночью, ни днем, ни даже в самый знойный полдень.
Эл Вильямс, который сидел на корме, опустив голову на грудь, ничего не почувствовал.
Но Джон МакКрэкен, который лежал на дне лодки под небольшим навесом, открыл глаза, хотя его сон на самом деле был более глубоким.
Вот что значит опыт!
Человек, проплывший тысячи километров по рекам сельвы, давно привык спать, прижав ухо к корпусу лодки: тот служил резонатором, позволяющим уловить самые далекие шумы потока.
Вначале это было всего лишь тихое журчание, вздох или жалоба раненой воды, однако вскоре оно превратилось в барабанный бой где-то по ту сторону горизонта, и тогда шотландец вскочил и повернулся к своему витавшему где-то другу.
— Проснись! — крикнул он. — Просыпайся, Эл!.. Просыпайся!
Оглушенный уэльсец вздрогнул.
— Что случилось? — спросил он, инстинктивно взводя курок винтовки.
— Пороги!
— О, господи!
Он отложил винтовку и схватил весло, но как только опустил его в воду, осознал, насколько велика опасность.
Меньше чем через сто метров река стряхивала с себя сонную одурь и впадала в ярость.
Ее пробуждение было бурным, непонятно чем вызванным: на первый взгляд ничего не изменилось, перед глазами стояла все та же картина, что и раньше.
Деревья, сплошь одни деревья до самой воды, ни тебе даже кромки песка, которая бы позволила определить, где проходят настоящие берега. Однако за очередным поворотом они попали в гигантский желоб, и их понесло прямиком к далекому облаку брызг и пены.
С чего это вдруг поверхность земли так резко пошла здесь под уклон?
Где они вообще находились?
Сколько лет длилось их плавание, но они ни разу — с тех пор как покинули среднее русло Напо, еще там, в далеком Эквадоре, — не встречали такого резкого перепада. На всем пути гигантская Амазонка изменяла уровень разве что на несколько метров, тогда как сейчас поверхность земли словно проваливалась перед носом куриары, как будто они летели с вершины громадной американской горки.
Напрасно они пытались приблизиться к берегу.
Берега-то, собственно, и не было.
А были только толстые бревна, о которые они могли разбиться, а еще дальше — острые камни и огромные осклизлые плиты, угрожавшие разнести лодку в щепы.
Они боролись.
Боролись, как боролись до сих пор — уже бог весть с какого времени — с бесчисленными трудностями, только на этот раз бой явно оказался слишком неравным, потому что природа демонстрировала неукротимость, и их понесло, словно лист, подхваченный вихрем.
Они гребли вовсю: один с левого борта, другой — с правого, призвав на помощь последние остатки сил из самой глубины уже давно истощенных тел, однако от одного только вида стремнин, длинных и яростных, у них стыла в жилах кровь.