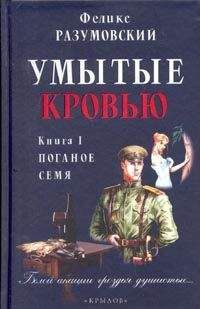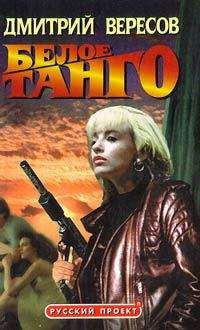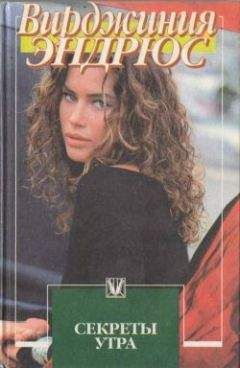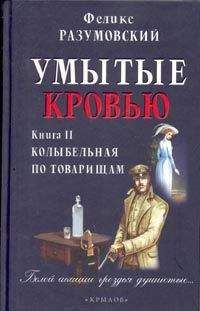Он сухо, словно выстрелил, щелкнул арапником и, едва затихли суетливые шалавьи шаги, повернулся к связанному:
– Отчего воруешь?
– Имею право. – Нехорошо ухмыляясь, Митька повысил голос и, наглея от собственного крика, вдруг затрясся от злобы, заскрежетал зубами. – Жестоко пострадал от царизма, а вы тут все эксплуататоры, насосались народной крови, лопаетесь от жира. Ну, ничего, революция грянет, будет и на нашей улице праздник, узнаете…
– Молчать. – Генерал щелкнул кнутом, голос был страшен. Так он кричал во время боя под Плевной, после которого досрочно стал ротмистром, а Василий Сурчин получил Георгиевскую медаль. – Мирон, снимай с него штаны, – сказал он уже спокойно, и только кучер с радостной готовностью заголил Митьке тощий, неказистый зад, принялся хлестать кнутом по живому. – Не воруй, не позорь отца, не бегай от службы, сукин сын!
Свистел арапник, смачно полосуя вздрагивающую плоть, истошно, матерной скороговоркой, ругался Митька. После третьего удара, когда брызнула кровь, он замолчал, охнул и внезапно заскулил, как-то по-бабьи, в голос:
– Прости, пощади, дяденька, не со зла я, от глупости, ох, больно, мочи нет!
Его тщедушное тело вихлялось из стороны в сторону, голова мелко тряслась – смотреть на него было противно и жалко.
– Мокрица. – Сплюнув, генерал отшвырнул арапник и глухо сказал кучеру: – Отвезешь мерзавца в привокзальную слободу, чтобы духу его здесь не было.
Потом он повернулся к стоящему столбом Сурчину, тронул его за плечо:
– Пошли, Василий.
Щурясь после полумрака конюшни от солнечных лучей, они двинулись по дорожке к дому, не раздеваясь, прошли в столовую. Генерал до краев наполнил стакан померанцевой, протянул Сурчину:
– Пей.
Налил и себе и, одним глотком осушив лафитник, со всего маху ударил картузом об стол:
– Просрали мы Россию, брат, проворонили империю! Давай, шагом марш!
Едва ошарашенный Сурчин вышел, Всеволод Назарович налил себе еще, выпил и, чувствуя, что стремительно пьянеет, опустился в кресло. В голове завертелись огненные колеса, мир укрыла мутная пелена, и генерал перенесся в прошлое. Снилась ему Изольда, молодая, красивая, в черном кружевном платье с обнаженными плечами и белокурыми локонами, собранными в высокой бальной прическе. Держа в руке алую розу, она загадочно улыбалась.
– Все, приехали. – Геся Багрицкая-Мазель остановила пролетку на Невском напротив Пассажа. По-царски расплатилась с лихачом и, нарядная, за версту благоухающая «Лориганом»[1], не спеша, двинулась по Садовой. Ей хотелось пройтись пешком.
Стоял погожий осенний день. На карнизах ворковали сытые, разъевшиеся голуби, сонные ваньки, сгорбившись на козлах, терпеливо поджидали седоков, в толпе мелькали картузы, дамские шляпки, котелки, грязно-серые солдатские папахи с расстегнутыми отворотами. Марьяжили клиентов дешевые «клюшки», ужами вились какие-то личности с цепким взглядом бегающих глаз и быстрыми движениями ловких рук. В прежние времена шастали бы они недолго – до первого городового.
– Асмоловские папиросы крученые, асмоловские папиросы!
– А вот «Голубка», пять копеек десяток!
– Кошелечки-кошельки отличные, к золоту привычные!
– Пожалуйста, первосортный табачок фабрики господ Поповых!
Вокруг Багрицкой волновалась толпа проворных, в белых фартуках, с лотками на плечах уличных разносчиков. Встречные дамы завистливо мерили глазами ее манто от мадам де Лантье, мужчины не скрывали восторженно-плотоядных взглядов, только Гесю они совершено не трогали. Все, больше с этими двуногими скотами никаких дел. Хватит.
Единственный мужчина, которого она вспоминала с нежностью, был отец. Он гладил Гесю по голове большой теплой рукой, покупал ей леденцы «Ландрин» и смешно рассказывал веселые мансы. Но однажды в дом вломились пьяные, дико орущие мужики и убили его, а ее, задыхающуюся от страха и боли, грубо изнасиловали. На всю жизнь в память ей врезались их торжествующих смех, чесночный смрад вонявших пастей и тяжесть взопревших, давно не мытых тел.
Гэвэл гаволим! Канторы протяжно пропели «Эль молей рахим» над могилой отца, и, чтобы как-то жить, мать, спасибо дяде Гершу, устроилась сиделицей в винную лавку. Геся ей помогала во всем – расставляла по полкам сотни шкаликов, «мерзавчиков», «полумерзавчиков», которые привозили со склада в корзинах, разделенных на гнезда, вытирала пыль, мыла полы и каждодневно убеждалась в скотской сущности мужского пола. Прилавок не случайно был отгорожен частой железной решеткой, – за ней, словно звери в клетке, толпились расхристанные, готовые на все ради двухсотки водки пьяные завсегдатаи. Так бы и придушила их всех.
А потом зацвели каштаны, и Гесю выдали замуж за хозяина антикварной лавки Хайма Соломона. Подобно царю Давиду он возжелал, чтобы на старости лет его согревала по ночам молодая прекрасная дева. Правда, познав полудюжину пьяных мужиков, Геся оказалась поискушенней непорочной Ависаги Сунамитянки[1], да и сам Хайм Соломон, не в пример владыке Израиля, изводил ее своей мерзкой похотью до крайности, пока не помер. А во искупление своих грехов завещал все деньги и имущество синагоге.
Пришлось Гесе вскоре выходить замуж за Соломона Мазеля – грубияна, картежника и громилу. Он был высок, широкоплеч и брюхат, носил в тон рыжим пиджакам бархатные малиновые жилеты, а когда бывали перебои с деньгами, бойко приторговывал Гесиными прелестями. Наконец случилось то, что должно было случиться. Шлема Мазель основательно влип и был отправлен по этапу в якутский каторжный острог. Гесе же не оставалось ничего другого, как трудиться двухрублевой шмарой, пока братец не выписал ее в Петербург и не подложил под святого старца. И после всего этого кто может сказать, что мужчины не двуногие скоты!
Геся прошла вдоль чугунной решетки Ассигнационного банка, не спеша миновала фасад Пажеского корпуса, путь ее лежал к Покровской церкви. Нет, она не собиралась молиться или исповедоваться на скамейке, в скверике у храма, у нее было назначено рандеву с княгиней Озеровой, особой чувственной, развратной и весьма падкой на сомнительные удовольствия. Муж ее, известный петербургский бугр, открыто жил со своим адъютантом и не раз предлагал супруге завести любовника на свой вкус. Однако вкус княгини оказался несколько отличен от общепринятого.
Познакомилась Геся с ней прошлым летом на майоренгофском пляже под Ригой. Погода стояла жаркая, и отдыхающие активно принимали морские ванны. По всему берегу из воды торчали плетеные корзины-купальни, оборудованные специальными колесиками. Служащие пляжа вывозили в них одетых в полосатые костюмы-джерси дам на глубину. Волей случая Багрицкая и княгиня Озерова заняли соседние купальни, познакомились, разговорились, а потом стали на пару весело проводить время. Ах, славное выдалось лето! В Петербурге они встречались редко, но, как говорится, метко – княгинюшка обычно привозила для компании какую-нибудь хорошенькую горничную, ехали в «Бристоль» или «Варшавскую», ужинали с шампанским, нюхали кокаин, засыпали втроем в одной постельке.