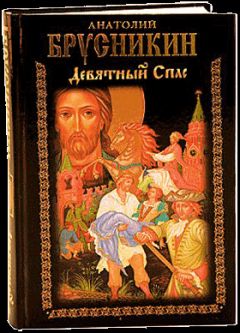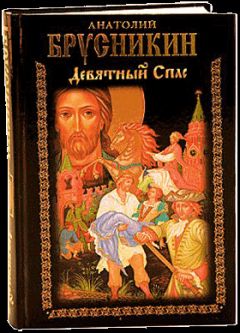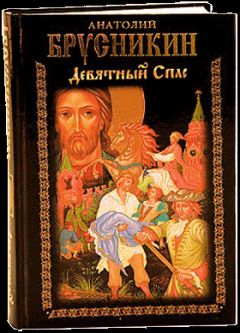Не убоявшись пистолета, ринулся на десятника, которого, казалось, плевком перешибёшь.
Но не тут-то было. Сильные руки дворянина зачерпнули воздух, а проворный карла, пав на пол, дёрнул противника за ноги.
Ларион упал во весь немалый рост, стукнулся затылком и на несколько мгновений сомлел.
Пришёл в себя от нестерпимой боли. Преображенцы прижимали ему руки к полу, а карла сидел на поверженном помещике и давил ему в шею своим острым локтем – до того мучительно, что Никитин закричал.
– Яков Иваныч, на господской половине нет! Везде смотрели! – крикнул кто-то.
– Ищите, робятушки, ищите, – проворковал десятник. – Сбежать или далеко спрятаться ему времени не было. Он полудохлый, на виске ломанный. На печи поглядите, да за печью, да внутрь суньтеся. После дыбы их, пытанных, на горячее тянет. На черной половине я сам посмотрю. Вы двое, держите вора крепко.
Поднялся у Никитина с груди, зато преображенцы навалились ещё сильней, не шелохнуться.
* * *
Согнув свою и без того куцую фигурку, Яха вскарабкался по ступенькам в верхнюю, чёрную половину терема. Он двигался, мелко семеня и по-собачьи принюхиваясь, заглядывал под лавки. В длинной не по росту, крепкой руке была зажата острая сабля. На первый взгляд была она будто потешная или детская, размером с длинный кинжал, но её булатным клинком Срамной запросто перерубал пополам здоровенного кобеля.
Заглянул в комнатку слева – пусто. Потянул носом: человечьей боязнью не тянет. В комнатке справа под лавкой кто-то сжался в комок. Не то: запах кислый, бабий. (Нюх у Яхи был совершенно исключительный, очень ему пригождался и в работе, и в жизни.)
Впереди оставалась ещё одна неплотно закрытая дверь, откуда лился свет. До неё оставалось несколько шагов, когда створка распахнулась, и в тёмный переход выскочил старик с кочергой. Со свету ему было Яшку не видно, да и не ждал он встретить карлу – ударил наотмашь, по пустому. У Срамнова над головой лишь ветром шумнуло.
В открывшейся двери десятник увидал того, кого искал. Молодой парень в рубахе с пустыми рукавами сидел на лавке. Он это, беглый чашник Митька Никитин, больше некому.
Этот-то, с кочергой который, снова размахиваться стал, но он теперь Яхе был не нужен.
– Охолони, старинушка, – пропел Срамной, всаживая деду в брюхо острие. Выдернул с вывертом, с требухой, на упавшего не оглянулся. Шагнув в горенку, сказал чашнику ласково: – Ну, здравствуй, соловушка.
Этим словом он обычно называл всех, кого ему предстояло допрашивать. Нет слаще того пения, каким у Яхи в руках пели испытуемые. Особенно такие красавчики, рослые да гладкие.
Вдруг сзади, с лестницы, топот, крик:
– Митьша, беги! Беги, родной!
А потому что оплошали дурни-преображенцы. Вздумали хозяина связывать, а для этого пришлось с него сначала слезть. Ларион Никитин был мужчина изрядной силы, а от отцовского страха мощь в руках удесятерилась. Вырвался, двинул одного в висок кулаком, второго сшиб головой в нос. Схватил со стола саблю – и наверх, сына выручать.
Если Яха и колебался, то не долее мига. Рубиться с помещиком, который, поди, в сабельном бою сноровист, было делом опасным, а главное, лишним. На что он, Лариошка, теперь нужен, когда Митька сыскался?
Выхватил Срамной из-за пояса прихваченный из горницы пистоль. Хорошая вещь, англицкой работы, такая осечки не даст. Осечки не было.
Тяжелая пуля, с большую вишню, попала, куда ей следовало – прямо в серёдку лба.
Но взбесившийся помещик, хоть и с дырищей в голове, не рухнул, как тому следовало, а только башкой мотнул. Сделал на гнущихся ногах шаг, другой, третий, всё тщился саблей дотянуться, а у самого уж глаза на закат пошли. Наконец свалился Яшке под ноги. То-то. Обернулся десятник, а беглеца нет. Пропал!
Через миг Срамной, правда, разглядел в углу малую дверку. Сбежал по тёмным ступенькам вниз, оказался во дворе.
Некуда было чашнику отсюда деться: вокруг тын, у ворот караул.
– Сюда бегите! Все сюда! – завизжал десятник.
* * *
Из-за чего отвернулся жуткий уродец, Дмитрий не видел, но случая не упустил. Кинулся вон из комнаты, дверцу толкнул грудью, ссыпался со ступенек, лишь чудом не сверзшись с них в темноте.
Сзади грянул выстрел. Кто по кому палил, непонятно. С разных концов двора доносились голоса, крики.
– Ироды! – голосила где-то бесстрашная ключница Лизавета. – Чтоб вас разорвало! Чтоб у вас брюхо полопалось!
В конюшню! Когда Степаныч растолкал спящего Митю и натягивал ему сапоги, успел сказать про подземный ход.
– Пролезешь там навряд ли, но хоть отсидишься…
Вечно запертую дверь в глубине старой конюшни Митьша в детстве видел много раз. Подходить к ней ему было строго заказано, но они с Лёшкой и покойным Илюхой, конечно, пробовали открыть ржавый замок. Сил не хватило.
Не совладал бы с ним Дмитрий и сейчас, безрукий-то. Однако замок валялся на земле.
Носком сапога он двинул створку, скользнул в темноту. Жалко, закрыть за собой дверь было невозможно. Это означало, что прятаться здесь бессмысленно. Рано или поздно доищутся. Может, ход не совсем осыпался. Надо пробовать.
Шагов десять-пятнадцать он преодолел, почти не сгибаясь. Потом стукнулся лбом, присел и дальше пробирался уже осторожней. Двигаться во тьме без рук было скверно. И не в пригляд, и не наощупь, а истинно наобум: то лбом «бум», то коленкой, а хуже всего, если плечом – тогда от боли в суставах хоть волком вой.
В одном месте пришлось лечь на живот и медленно, толкаясь одними ногами, ползти под обрушившимися опорами. Страшней всего было, когда застрял: ни туда, ни сюда. А начал брыкаться – наверху затрещало, посыпалась земля. В ужасе Дмитрий оттолкнулся от чего-то ногами, протиснулся. Сзади с тяжелым грохотом осыпался целый пласт земли. Назад теперь дороги в любом случае не было. Ну и пускай. Лучше здесь похорониться заживо, чем в пытошный застенок.
Он долго лежал, не мог отдышаться. Наконец собрался с силами, вытянул из-под завала одну ногу, вторую. Скрючившись в три погибели, на коленках пополз дальше.
Впереди еле заметно серело что-то узкое, щелеобразное. Митя задвигал коленями быстрее.
Так и есть! Дощатая дверца, и в ней щель. Он прижался лицом, губами к занозистой поверхности и чуть её не расцеловал. Неужто выбрался? Толкнул головой. Дверь не подалась. Попробовал грудью – лишь скрипнула.
За долгие годы ненадобности дверь перекосилась, вросла в землю. Попробуй, открой такую, хоть бы даже и здоровыми руками.
Сколько Никитин ни бился – всё попусту. Щель стала синей, потом чёрной. Снаружи наступила ночь, а обессиленный беглец никак не мог уразуметь, что спасение – вот оно, в двух вершках расстояния, а только одолеть преграду невозможно.