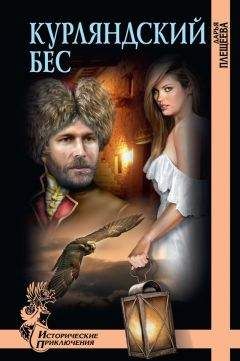— Сказал, что велел предоставить нам слуг и гостевые покои, где можно умыться с дороги, перекусить и немного отдохнуть. Тебе он пришлет личного лекаря. Когда настанет время ужина — нас позовут.
— А он не спросил, кто мы такие? — с беспокойством спросил Тимофей, опасавшийся, чтобы Конюхов, не дай бог, не сболтнул бы чего-нибудь лишнего. — Ты что про нас-то сказал?
— Сказал, что ты — важная особа, инкогнито, а я — твой секретарь и переводчик.
— Инко… кто? — набычился Тимоха, не сумев выговорить мудреное слово с первого раза.
— Инкогнито — это когда важная особа не желает, чтобы его узнавали. Потому путешествует тайком, под чужим именем.
— А-а! — протянул Акундинов, еще больше зауважав Конюхова. Не за то, что тот знал иноземный язык, а за то, что за столько лет сплошной пьянки не позабыл.
Тимоха оглядел высокие потолки, украшенные лепниной, и стены, завешенные широкими половиками с изображением каких-то сражений, а также на богатый ковер на полу. Радостно узрел высокую кровать, по виду — мягкую, и девку, около которой стояло два медных ушата и… деревянное корыто, так не вязавшееся с остальным великолепием.
Этой лоханке, из которой у нас поят поросят, было бы уместней стоять на крестьянском дворе! Однако долго думать не стал, а с удовольствием стал сбрасывать с себя ненавистные скоморошьи тряпки и загрубевшее за последний месяц нижнее белье.
Встав в корыто, он застеснялся незнакомой девки, прикрывая руками «грех», задумавшись — а как же мыться-то будет? Но та спокойно принялась поливать его теплой водой, растирая губкой заскорузлую кожу. Потом вытащила из кармана передника остро заточенный нож и, не спрашивая согласия, принялась брить бороду. Тимофей, пришедший в некоторое недоумение от мытья, не сразу и понял, что у него убирают красу и гордость мужчины! Но было уже поздно…
Скоро пришел лекарь — долговязый дядька в черных одеждах и с брюзгливым выражением на вытянутой морде. Не доверяя служанке, лично смочил повязку теплой водой.
— Путет немношка польна, — предупредил лекарь по-русски, но с отчетливым немецким акцентом.
Какой там «немношка»! «Мношка», да еще как! Когда лекарь стал сдирать задубевшую повязку, присохшую к ране, Тимофей заорал во весь голос.
— Мать твою так за забор да об пень с колодой! — витиевато выругался Тимофей, у которого перед глазами заплясали радужные искры.
— Вам, пан, оч-ченно пофезло! — вежливо сказал лекарь, слегка усмехнувшись вычурному ругательству, и добавил: — Пофезло, что перефяска пыла стелана оч-ченно профи!
«Профи? Сиречь профессионально? Мастерски, стало быть, — перевел Тимоха. — Это кто же мастер-то? Костка, когда первую помощь оказывал, али — одноглазый?»
Чистый и перевязанный, в свежайшем нательном белье, от которого пахло чем-то сладковато-цветочным, парень оказался в мягкой постели. Лекарь ушел, а девка, утащив кувшины и корыто, затерев воду, подошла к начавшему дремать Акундинову.
— Что хочет пан? — поинтересовалась она. — Есть? Пить? Или — меня?
Последние слова Тимофей не понял, решив, что еще недостаточно хорошо знает по-польски. Все же язык братьев-славян он учит только месяц. Но на всякий случай сказал:
— Все давай!
Девка принесла поднос, на котором стояли серебряная тарелка с солидным куском мясного пирога и высокий стакан с вином. Жадно, почти не жуя, проглотив пирог и запив его кислым вином (уж не французским ли?), Акундинов повеселел. Ну, он бы, конечно, мог съесть и еще столько же, но лучше оставить еще место под ужин. Девка же, не говоря ни слова, развязала шнурок, удерживающий юбку, стянула с себя маленькую безрукавную кофточку со шнуровкой спереди и, оставшись в одной рубахе, легла рядом. Выгнувшись на постели, задрала подол до пупа и раздвинула ноги. Но, как оказалось, старалась девка зря, потому что к этому времени Тимофей уже спал.
Разбудил его чей-то вкрадчивый голос. Проснувшись, обнаружил, что девка спит рядом с ним, а в комнате стоит невзрачный и горбатый старичок со стеклами на носу.
— Пше прошу, пан, портной я, — заговорил старичок, суетливо доставая из-за пазухи длинную кожаную ленту. — Мордкой меня зовут. Не извольте беспокоиться, пан москаль, обмеряю вас в лучшем виде. Пан Мехловский распорядились, чтобы к утру вы и ваш секретарь были одеты по последней парижской моде.
Слегка раздраженный, что разбудили, Акундинов послушно дал себя обмерить. Если уж «пан Мехловский распорядились», то лучше не спорить. Когда Мордка ушел, явился один из давешних слуг.
— Прошу вас, пан, пожаловать на ужин, — поклонился слуга, собирая с полу разбросанную одежду.
Акундинову страсть как не хотелось опять влезать в обноски, но пришлось. Не идти же к пану в нижнем белье?
…В пиршественном зале стоял длинный стол, составленный в виде русской буквы «покой». Вершина буквы стояла чуть выше. Там, на высоком кресле, больше похожем на трон, восседал властитель сих мест — ясновельможный пан Мехловский. Одесную от него располагалась сухощавая, стервозного вида женщина, возможно, супруга. Ошуюю — монах в серой сутане с римским распятием на груди. За столом, ниже владетеля находились шляхтичи — «подданные» магната. Места для Акундинова и Конюхова располагались чуть ли не в самом конце. Что же, справедливо. Москали должны знать свое место!
Пока присутствующие стояли, внимая молитве монаха, Акундинов рассматривал друга. Лишившаяся редкой седоватой бороды, Косткина харя выглядела непривычной и какой-то такой… «Ну, точь-в-точь как у тех мужиков, что вместо баб мужиков имают…» — мысленно усмехнулся Тимофей, но, вспомнив, что и сам-то выглядит не лучше, слегка загрустил.
После молитвы со своего кресла-трона встал хозяин, который на сей раз размовлял по-польски;
— Панове! Сегодня мне посчастливилось принимать у себя гостей из Московии…
При словах «Московия» кое-кто из шляхтичей посмотрели на гостей нехорошо. А кто-то даже осмелился отпустить едкое слово. Ну, еще бы! Почти полвека (не считая предыдущих столетий!) братья-славяне только и делали, что убивали друг друга. И хотя поляки громили русские войска, но победы доставались Речи Посполитой чересчур дорого!
Пан Стась, невозмутимо переждав волнение, продолжил:
— А кто из вас, панове, осмелится выражать недовольство к особам гостей, то я, со всем почтением к шляхетской гордости, прикажу всыпать плетей! И посему первый наш тост — за гостей из Московии!
Шляхтичи, спрятав недовольство в усах, встали и, дружно прохрипев: «Виват!», опрокинули кубки. Знали, что «уважение» к шляхетской чести заключается в том, что пороть тебя будут не на конюшне, как хлопа, а в комнате, на ковре.