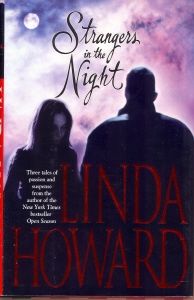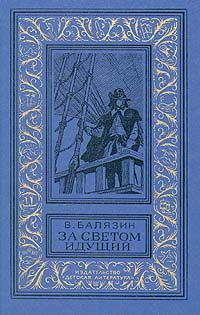Подойдя к русскому подворью, Зелфукар-ага отдал все, им полученное, двум грязным и бесчестным стражам — ямакам, стоявшим у ворот посольства, и, поклявшись возместить убытки за счет Телепнева и Кузовлева, решительно перешагнул порог.
Расчет Зелфукара-аги оказался правильным: после того как послы разузнали все, о чем говорил великий визирь с ворами, они с лихвой возместили пронырливому толмачу его убытки. И чтобы не навлечь на доброхота Зелфукара и тени подозрения, Кузовлев дал ему не русские деньги, а две золотые сицилийские онцы, выменянные еще в Кафе на захваченные из Москвы ефимки.
Получив мзду, Зелфукар-ага сказал:
— Если дашь еще золота, скажу, кто есть в самом деле вор Шуйский.
Телепнев слабым голосом, не подымая головы с подушки, ответствовал:
— Зелфукар-ага, то золото, что мы тебе дали, не наше золото, а государево, и нам за то золото перед государем ответ держать. А как я государю скажу, что за малые дела много денег отдал?
Толмач повел плечом, приподнял брови:
— То дело не малое, господин. То дело великое. — И добавил жалобно: — Чтоб имя вора узнать, я много одному человеку платил. Что теперь делать? Обратно у доброго человека золото брать?
— Сколь заплатил? — тихо спросил Телепнев, понимая, что придется раскошелиться еще раз.
— Пять фондуков платил, — ответил толмач, не отводя глаз.
— Говори, — вздохнул Степан Васильевич и велел дьяку Алферию достать из сундука деньги.
— Звать вора Тимошка, по прозванию Анкудинов. Прибежал вор из Вологды на Москву и там был в приказе Новая Четверть подьячим.
— Новая Четверть! — воскликнул молчавший до того Кузовлев. — Да я ж того Тимошку знаю! Был он при Иване Исаковиче Патрикееве в подьячих. И из Москвы года два как убег. Мы с ним даже на одной свадьбе вместе были. Я, Степан Васильевич, вора Тимошку, если поставят меня с ним с глазу на глаз, тут же уличу!
— Ну и дела! — слабо ахнул Телепнев. — Ладно, коли так. А если нет?
Зелфукар-ага приложил руку к сердцу:
— Так, господин, истинно так.
Степан Васильевич вздохнул и, еле пошевелив пальцами, показал Кузовлеву: пододвинь-де толмачу кису с деньгами.
Кузовлев толкнул по столу кожаный мешочек, и Зелфукар-ага ловко поймал его. Кузовлев спросил:
— А скажи, ага, как нам сподручнее того вора Тимошку достать?
— Везир-и-азам сам такого дела не сделает. Можно вора достать большой казной.
— Все казной да казной, — проворчал Телепнев. — Деньги отдадим, а вора нам не выдадут — и потеряем казну даром. Люди-то ваши — ты, Зелфукар-ага, не обижайся — не однословы: пообещать пообещают, а дела не сделают.
Зелфукар-ага сказал:
— Зачем стану обижаться? Правду говоришь, господин. А ты меня послушай: бросьте вы это дело. Пойдет вор по земле, волочась, — и сам пропадет. А то зашлет его везир-и-азам в дальний город или же на галеру в греблю отдаст. А если станешь, господин, о воре промышлять, то пуще его вздорожишь, и станет везир-и-азам думать: «И вправду вор царского кореня».
Телепнев вздохнул, подумал: «Вот привязалась напасть — сам черт не разберет. И так-то посольство — хуже не придумаешь: на крымского царя султану надо челом бить, о злодеяниях его доводить многими словами, накрепко. А как еще султан к тому отнесется? Крымский царь единоверец его — из султановой руки на мир смотрит. Да и в набег ходил не по наущению ли из Цареграда?»
А Зелфукару-аге сказал так:
— Спасибо тебе, Зелфукар. То воровское дело для нас, послов, не главное. Есть у нас и иные, государственные дела. Только если речь о воре зайдет, то скажи боярину твоему, Азему, что вор тот — худой человек, подьячишка, нечестных родителей сын.
Анкудинов, живя во дворце. Азем-Салиха-паши, с утра и до полудня слушал поучения хаджи Рахмета, носившего красную феску с черной кисточкой — признак ученого человека. Хаджи Рахмет занимался с Тимошей турецким и арабским языками, готовясь к тому, чтобы понятливый и способный к языкам урус вскоре мог понимать Коран.
А с полудня и до глубоки ночи Тимоша бродил по великому городу Истамбулу, само название которого означало — «полный мусульман». Он исходил его весь — от замка Румели Иссар до древнего Хризополиса, называемого турками Ускюдаром, и от площади Сераскера до Силиврийской заставы. Он шатался по кварталам Ливадии и Галаты, возле Урочища Рыб, у белых стен султанских дворцов Топ-Капу и Чераган, по берегу Босфора у садов Долма-бахче.
Он исходил вдоль и поперек все базары Истамбула, дивясь их разноязычию, многолюдству и богатству. Он забредал в мечети, церкви, кофейни, цирюльни, бани, таверны. Толкался среди носильщиков, водоносов, кузнецов, горшечников, мясников. Знакомился с важными деребеями — турецкими вотчинниками, с лукавыми ростовщиками, ловкими торговцами, простодушными крестьянскими сыновьями — уланами. Дивился на гадателей, заклинателей змей, фокусников, акробатов.
Но не прошло и месяца, как все это великое шумство и многолюдство, пестрота и живость, голубое небо и голубое море, горы сладких плодов и ласковое тепло ранней осени стали раздражать Тимофея и вызывать у него такое чувство, какое появляется при виде сахара у человека, объевшегося сладким. И, заслоняя прелести щедрой осени и яркие краски базаров, стали лезть в глаза ему нищие и юродивые — по-здешнему дервиши, коих было в Истамбуле поболее, чем в Москве; стали попадать под ноги стаи облезлых бездомных псов, а в кварталах босфорского прибрежья — тучи крыс. И вместо свежего морского бриза стали бить в нос запахи гнили и тления — от падали, валявшейся в канавах, от затхлой воды в арыках, от тухлой рыбы на берегу, от гор гнилых фруктов на базарах.
Не весело стало от всего этого на душе у Тимофея, а тревожно и смутно. Все чаще стали вспоминаться ему белые снега и звенящие от мороза леса — чистые, смоляные, светлые. И все чаще, выходя на Босфор, глядел Тимоша на его западный берег, туда, где кончалась Европа, хотя турки считали, что именно там не кончалась она, а начиналась. На европейском берегу Босфора, собравшись тесной стайкой, застыли у самого моря белые терема византийских императоров. Зеленые кипарисы и невысокие стены с башенками окружали жилище ушедших в небытие басилевсов, некогда владевших половиной известного им мира. А неподалеку от невысоких теремов императоров громоздилось здание храма Святой Софии, обстроенное клетушками, выступами, минаретами.
Когда Анкудинов впервые оказался внутри храма, огромного, запущенного и грязного, он не почувствовал ни величественности, ни простора, ни света, хотя София в Истамбуле была раз в десять побольше Софии в Вологде. Бесчисленные колонны уходили в разные концы огромного зала, бесконечные коридоры убегали в глубь здания, ныряя под галереи и переходы и теряясь в чудовищной толще циклопических стен храма. Грязный, потрескавшийся пол, покрытые птичьим пометом подоконники, осыпавшаяся штукатурка — все кричало о разрушении, забвении, являя всеконечную мерзость запустения. Стены, некогда расписанные фигурами святых и изукрашенные речениями отцов церкви, теперь были густо закрашены цветами и орнаментами, покрыты затейливой арабской вязью сур из Корана.