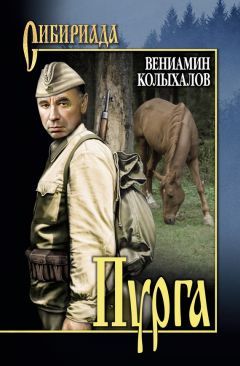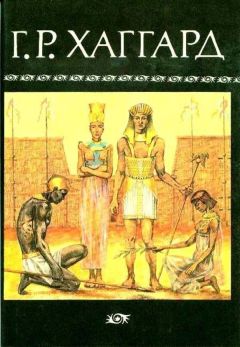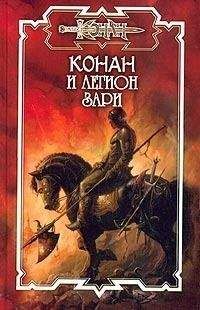Захара мало утешали сочувственные слова помощника. Больше затрагивала неподдельная горесть Фросюшки-Подайте Ниточку. При виде окаменелого трупа покойницы она царапала себе лицо, корчилась в судорогах истинного страдания, обливалась горючими слезами искусной вопленицы. Благоговейно помогала обряжать усопшую в приготовленное одеяние. На поминках ела кутью наполовину со слезами. Полоумка-то полоумка, а чужое горечко вбирала в душу целиком. И слезы были чистые, искренние, не за поминальное угощение выплаканные.
На следующий после похорон день тот же трещоточный катер, что увозил первобранцев на фронт, приплавил к Большим Бродам широконосую баржу. От шкиперской каютки вдоль бортов возвышалась горбыльная надстройка, перехваченная в носовой части пятью осиновыми жердями.
По шаткому трапу с катерка сошел военный. Одернул гимнастерку, осмотрелся. Серая лайка, лежавшая возле опрокинутого обласка, с приветливым вилянием хвоста подошла к гостю. Понюхала начищенный хромовый сапог, чихнула.
— Че, к дегтю привыкла, крем не признаешь? — Приезжий погладил собаку промеж ушей, молодцевато расправил черные с проседью усы.
С яра из-под ладошек смотрела всезнающая ребятня.
— Коней наших увезут…
— Гли, ребята, генерал идет…
— Много ты, Степанка, понимаешь? Не генерал — просто командир…
— Ордена блестят…
— Пряже-е-ек сколько!..
Просто командир неторопливо поднялся по взвозу на круть, направился к стайке большебродских юнцов. Самые маленькие пустились наутек, придерживая на ходу лямочки короткогачных штанишек. Отбежали, присели на траву неподалеку. Слышалось шмыганье носов.
Поздоровавшись чинно, за ручку с четырьмя оставшимися у кромки яра ребятами, военный представился:
— Меня зовут Сергеем Ивановичем… Новосельцевым.
— Дядя, вы генерал?
Кто-то больно ущипнул Степанку за мякоть пониже спины.
— До генерала, мальчик, мне далековато. Всего лишь капитан.
— Военный корабль водите?
Новосельцев рассмеялся.
— Пока лишь сопровождаю во-о-он тот катер с баржой… Скажите-ка, герои, где отыскать Захара Яковлевича?
— Такого не знам.
— Вот здорово! Своего нового конюха не знаете? С кем же в ночное ходите?
— Так это Захарка. У него мама недавно умерла.
— Мне известно. Поэтому и не приезжал раньше.
Пошли к конному двору.
Тютюнников, объезжая поля, слышал моторный треск. Знал — зачем и куда идет по Васюгану вездесущий катер. Сегодня и так небольшие колхозные силы подрежут на треть. Заберут самых сильных, выносливых коней. Они скоро потянут тяжелую лямку войны. Опустив поводья, Василий Сергеевич недвижно сидел в седле, созерцая привычную картину созревших хлебов. Гнедко срывал сочные макушки белого клевера-медовика.
Подступала главная страда пахаря — уборка. Засевали поля, не гадали, не ведали, что кликнет мужиков война, оторвет от привычного дела. Вот он хлеб насущный. Один на один с небом. Природа пестовала его, помогала крестьянину растить. Однако природа не шевельнет пальцем, чтобы помочь убрать урожай. Наоборот. Будет вредить дождями, пугать близким снегом. Ветры распластают влежку колосья. Примутся опрокидывать снопы, суслоны. За каждую зернинку держит ответ только сеятель. Где он?
Впервые председателю не хочется в деревню. Знает: надо вот сейчас, немедленно прибыть туда, встретить Новосельцева из военкомата.
Катер давно оборвал нудную песнь. Наверняка ищут хозяина колхоза. «Что ж ты, Тютюнников, как мужик-скрытец, отсиживаешься у поля? — разговаривал сам с собой председатель. — Гнедка жалко? Не у тебя одного возьмут лошадей…» Не помнил, когда натянул поводья, направил бег жеребца к деревне. Очнулся — травы хлещут по стременам. Спрямил путь, поехал перелесками. Слева и справа полированным блеском мелькало листовое золото полей. Его текучий жар ощущался лицом. Поля посылали вдогонку: «Не забывай о нас… скоро, скоро…»
— Да, скоро. Скорее некуда, — пробормотал Тютюнников, слегка опираясь рукой на седельную луку.
На конном дворе ребячий гвалт.
— Дяденька капитан, эту лошадку не возьмете, а?
— Воронка оставьте.
— Игреньку не берите.
— Захар, не отдавай Ступку.
Новосельцев не обрывает парнишек. Во всех деревнях, где пришлось производить отбор лошадей, картина повторялась одна и та же. Первыми заступниками выступают пацаны-конники. Их чистая детская печаль была хорошо понятна.
Капитан приглядывался к молодому конюху. За лето лицо, шея, кисти рук сделались медно-красными. На лбу, под большими, неизбывшими горе глазами, время успело проложить пунктирно тонюсенькие морщинки. Под плотной рубахой четко проступали бугристые лопатки, вздернутые плечи, крутой выкат груди. Любой кузнец охотно бы взял Захара в молотобойцы. Нетрудно было усмотреть в нем силу, отчасти данную природой, но больше накопленную непрерывным крестьянским трудом.
Много таежных деревень проехал Сергей Иванович. Насмотрелся конюшен и конюхов. Желая выгородить побольше сил для колхоза, напускали на животных временную хромоту. Показывали опаршивленных, бельмастых, задышливых, упрятав добрых и горячих в беге. Утаивали настоящую цифру конепоголовья. Мазали медвежьим салом хомуты, уздечки, оглобли. Попытаешься набросить на коня такую уздечку или завести в хитрые оглобли — он свирепеет, вскакивает на дыбы, пускает в ход зубы, копыта. «Уросливая у нас порода, товарищ капитан, — дундит на ухо конюх, науськанный ко лжи председателем. — Намучились с нашим кобыльем. Жеребцы и того хлеще. В деревне четверых окалечили…» В доказательство слов машет рукой инвалиду, с утра сидящему у конюховки, поджидающему час осмотра. Ковыляет на зов прямой свидетель лошадиного коварства. Все в деревне знают: нога у пропойного мужичка перебита колом в драке. Ничего, надо одурачить военного. Чего он грабеж средь белого дня устраивает. И перекладывают грех на Серко. «Саданул копытом, аж кость в труху», — подвирает инвалид, заголяя грязную штанину.
Разве для личной конюшни старается капитан Новосельцев?.. Он выполняет святоотеческий долг. И приходилось ему «раскусывать» не уросливых коней — хитрых, уросливых председателей и конюхов. Кое-кого по военному времени отдавал под суд.
Конный двор в Больших Бродах поразил Сергея Ивановича своей чистотой и прибранностью. Ровный строй телег с поднятыми оглоблями. Под сапогами похрустывает песочек. Лошади сытые, чистые. Выстроены в деннике, как на параде. Возле голов — гнедых, серых, каурых — замерли в волнении мальчишки. Они тоже успели привести себя в опрятный вид. Стоят, думают: «Хоть бы моего конька не взяли…»