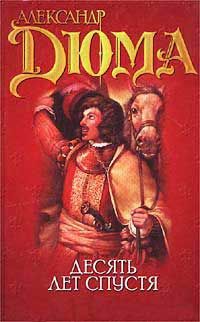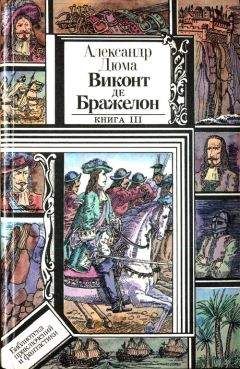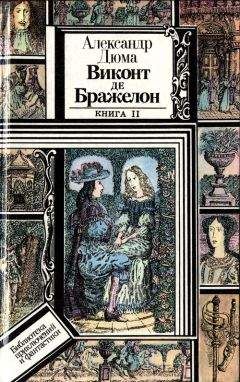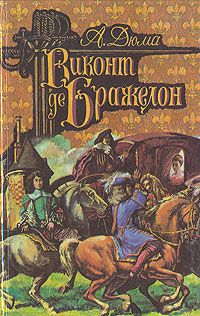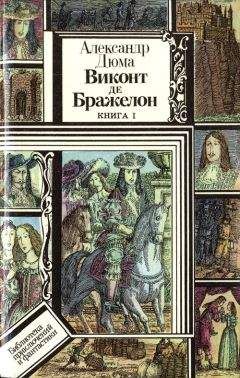Ну, ничего не поделаешь, монсеньер! Это и есть их настоящее ремесло мучить меня, когда я спокоен, и тревожить, когда я счастлив, — прибавил Безмо, кланяясь Арамису. — Предоставим же им занижаться их ремеслом.
— А вы занимайтесь вашим, — добавил, улыбаясь, епископ; при этом он устремил на Безмо настолько пристальный взгляд, что слова Арамиса, несмотря на ласковый тон, прозвучали для коменданта как приказание.
Франсуа возвратился. Безмо взял у него посланный к нему министром приказ. Он неторопливо распечатал его я столь же неторопливо прочел.
Арамис, делая вид, что пьет, сквозь хрусталь бокала наблюдал за хозяином.
— Ну, что я вам говорил! — проворчал Безмо.
— А что? — спросил ваннский епископ.
— Приказ об освобождении. Скажите на милость, хороша новость, чтобы из-за нее беспокоить нас?
— Хороша для того, кого она касается непосредственно, и против этого вы, вероятно, не станете возражать, мой дорогой комендант.
— Да еще в восемь вечера!
— Это из милосердия.
— Из милосердия, пусть будет так; но его оказывают негодяю, томящемуся от скуки, а не мне, развлекающемуся в доброй компании, — сердито бросил Безмо.
— Разве это освобождение потеря для вас? Что же, узник, которого теперь у вас отбирают, содержался в особых условиях?
— Как бы не так! Дрянь, жалкая крыса; он сидел на пяти франках в день.
— Покажите, — попросил Арамис, — или, быть может, это нескромность?
— Нисколько, читайте.
— Тут написано: спешно. Вы видели?
— Восхитительно! Спешно! Человек, который сидит у меня добрые десять лет! И его спешат выпустить, и притом сегодня же, и притом в восемь вечера!
И Безмо, пожав плечами с выражением царственного презрения, бросил приказ на стол и снова принялся за еду.
— У них бывают такие порывы, — проговорил он все еще с полным ртом. В один прекрасный день хватают человека, кормят его десять лет сряду, а мне беспрестанно пишут: «Следите за негодяем!» или: «Держите его построже!» А затем, когда привыкнешь смотреть на узника как на человека опасного, тут вдруг, без всякого повода и причины, вам объявляют: «Освободите». И еще надписывают на послании: Спешно! Признайтесь, монсеньер, что тут ничего другого не остается, как только пожать плечами.
— Что поделаешь! — вздохнул Арамис. — Возмущаешься, а приказ все-таки выполняешь.
— Конечно! Разумеется, выполняешь!.. Но немного терпения!.. Не следует думать, будто я раб.
— Боже мой, любезнейший господин де Безмо, кто же думает о вас нечто подобное. Всем известна свойственная вам независимость.
— Благодарение господу!
— Но известно также и ваше доброе сердце.
— Ну, что о нем говорить!
— И ваше повиновение вышестоящим. Видите ли, Безмо, кто был солдатом, тот останется им на всю жизнь.
— Вот поэтому я и оказываю беспрекословное повиновение, и завтра, на рассвете, узник будет освобожден.
— Завтра?
— На рассвете.
— Но почему не сегодня, раз на пакете и на самом приказе значится спешно?
— Потому что сегодня мы с вами ужинаем, и для нас это также достаточно спешное дело.
— Дорогой мой Безмо, хоть я сегодня и в сапогах, все же я не могу не чувствовать себя духовным лицом, и долг милосердия представляется мне вещью более неотложной, чем удовлетворение голода или жажды. Этот несчастный страдал достаточно долго; вы сами только что говорили, что в течение целых десяти лет он был вашим нахлебником. Сократите же ему хоть немного его страдания! Счастливая минута ожидает его, дайте же ему поскорей насладиться ею, и господь вознаградит вас за это годами блаженства в раю.
— Таково ваше желание?
— Я прошу вас об этом.
— Сейчас, посреди нашего ужина?
— Умоляю вас; поступок такого рода стоит десяти benedicite36.
— Пусть будет по-вашему. Только нам придется доедать ужин холодным.
— О, пусть это вас не смущает!
Безмо откинулся на спинку своего кресла, чтобы позвонить Франсуа, и повернулся лицом к входное двери.
Приказ лежал на столе. Арамис воспользовался теми несколькими мгновениями, пока Безмо не смотрел в его сторону, и обменял лежавшую на столе бумагу на другую, сложенную совершенно таким же образом и вынутую им из кармана.
— Франсуа, — сказал комендант, — пусть пришлют ко мне господина майора и тюремщиков из Бертодьеры.
Франсуа, поклонившись, пошел выполнять приказание, и собеседники остались одни.
Наступило молчание, во время которого Арамис не спускал глаз с коменданта. Тому, казалось, все еще не хотелось прервать посередине ужин, и он искал более или менее основательный предлог, чтобы дотянуть хотя бы до десерта.
— Ах! — воскликнул он, найдя, по-видимому, такой предлог. — Да ведь это же невозможно!
— Как невозможно, — сказал Арамис, — что же тут, дорогой друг, невозможного?
— Невозможно в такой поздний час выпускать заключенного. Не зная Парижа, куда он сейчас пойдет?
— Пойдет куда сможет.
— Вот видите, это все равно что отпустить на волю слепого.
— У меня карета, и я отвезу его, куда он укажет.
— У вас ответ всегда наготове. Франсуа, передайте господину майору, пусть он откроет камеру господина Сельдона, номер три, в Бертодьере.
— Сельдон? — равнодушно переспросил Арамис. Вы, кажется, сказали Сельдон?
— Да. Так зовут того, кого нужно освободить.
— О, вы, вероятно, хотели сказать — Марчиали.
— Марчиали? Что вы! Нет, нет, Сельдон.
— Мне кажется, что вы ошибаетесь, господин де Безмо.
— Я читал приказ.
— И я тоже.
— Я прочел там имя Сельдона, да еще написанное такими вот буквами!
И господин де Безмо показал свой палец.
— А я прочитал Марчиали, и такими вот буквами.
И Арамис показал два пальца.
— Давайте выясним, — сказал уверенный в своей правоте Безмо, — вот приказ, и стоит только еще раз прочесть его…
— Вот я и читаю Марчиали, — развернул бумагу Арамис. — Смотрите-ка!
Безмо взглянул, и рука его дрогнула.
— Да, да! — произнес он, окончательно поверженный в изумление. Действительно Марчиали. Так и написано: Марчиали!
— Ага!
— Как же так? Человек, о котором столько твердили, о котором ежедневно напоминали! Признаюсь, монсеньер, я решительно отказываюсь понимать.
— Приходится верить, раз видишь собственными глазами.
— Поразительно! Ведь я все еще вижу этот приказ и имя ирландца Сельдона. Вижу. Ах, больше того, я помню, что под его именем было чернильное пятно, посаженное пером.