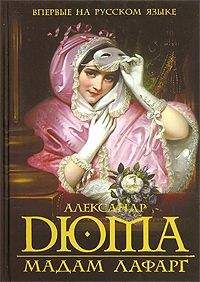Что до меня, то, поднявшись на вершину горы, я обернулся и увидел вдалеке лагерь Сменду – темное пятно среди красной африканской растительности.
Я помахал рукой, прощаясь с гостеприимным домом, похожим на башню, из окна которого пустынник следил, возможно, за нашим маленьким отрядом, направлявшимся в сторону Франции.
Спустя три месяца после возвращения в Париж я получил по почте пакет со штемпелем Монпелье.
Я разорвал конверт и достал рукопись – буковки – изящные, ровные, скорее нарисованные, чем написанные. К рукописи приложено письмо, написанное почерком неровным, торопливым, строчки гнулись и ломались, словно перо сотрясали приступы лихорадки или бреда. Под письмом стояла подпись: Мария Лафарг.
Я вздрогнул. Я еще не забыл огорчительное происшествие в лагере Сменду. Без сомнения, письмо бедной узницы было дополнением, постскриптумом, эпилогом происшествия.
Вот это письмо[140]. За письмом последует и рукопись.
«Сударь,
я получила письмо от моего кузена Эжена Коллара (из Монпелье)[141], зайдя в Алжире к продавцу гравюр, увидел там одну из «карандашных клевет», как называли мои портреты, появившиеся во время судебного процесса. Он приказал принести к нему все, которые еще оставались в лавочке, и уничтожил их. Потом, обернувшись к продавцу, стоявшему в онемении, сказал: «Мадам Лафарг – моя кузина. Портрет – ложь и гадость. Сколько я вам должен?»], он, а не мой дядя Морис Коллар (из Вилье-Элона) имел удовольствие оказать вам гостеприимство в лагере Сменду, и он же известил меня о приязни, которую вы питаете ко мне.
Однако ваша приязнь не мешает вам сомневаться во мне. Вы хотели бы верить в мою невиновность, пишете вы!.. О Дюма! Вы же знали меня ребенком, вы видели меня на руках у моей достойной всяческого почтения матери, на коленях моего добрейшего дедушки и можете предположить, что та самая маленькая Мария в белом платьице с голубым пояском, которую вы встретили с букетом маргариток на лугу в Корси, совершила отвратительное преступление, в котором ее обвиняют?! О постыдной краже бриллиантов я даже упоминать не хочу![142] Так, значит, вы хотели бы поверить? О мой друг! Вы могли бы стать моим спасителем, если бы захотели! С вашим-то голосом, который звучит по всей Европе, с вашим могучим пером вы могли бы сделать для меня то, что Вольтер сделал для Каласа. Так поверьте же, умоляю вас, поверьте мне! Поверьте во имя всех тех, кто любил вас как ребенка или как брата, во имя могил моих дедушки и бабушки, отца и матери. Я клянусь вам, протягивая руки сквозь тюремную решетку, клянусь вам, что я невиновна!
Почему же Коллар не убедил вас – или не убедил себя? – относительно бедной узницы, которая, дрожа, пишет вам? Нет, он знает, что я невиновна. И если у вас еще есть какие-то сомнения, он бы вас переубедил. Если бы я могла увидеться с вами! Если бы вы проезжали через Монпелье – я не питаю надежды, что вы можете сюда приехать только ради меня, – и мы увиделись, я не сомневаюсь, что, глядя на мои слезы, слыша рыдания, почувствовав в своих руках жар моих рук, дрожащих от лихорадки, бессонницы, отчаяния, вы бы сказали так же, как все, кто видел меня и кто меня знает: «Нет, о нет, Мария Каппель невиновна!»
Скажите, вы ведь не забыли, как мы вместе обедали у моей тети Гара за две или три недели до моего несчастного брака? О нем тогда еще даже речь не заходила. Я тогда была счастлива. Относительно счастлива, потому что после смерти моего дорогого дедушки я уже никогда не чувствовала себя счастливой.
Дюма! Вспомните же маленькую девочку, вспомните девушку. Узница столь же невинна, как дитя и юница, но она достойна большего участия, чем они, потому что стала мученицей.
Однако я хочу сказать вам о другом, мы не говорили с вами об этом, теперь я хочу поговорить. Приводит меня в отчаяние, скоро доведет до смерти в тесной камере или сведет с ума ощущение бессмысленности моего существования, сомнение в самой себе – я то верю в собственные силы, то не верю в возможность их обнаружить. Мне советуют: работайте!
Согласна. Но гласность столь же необходима для ростков умственной деятельности, как солнце для ростков пшеницы… Есть я или меня нет? Несчастный Гамлет, сомневаясь, задает вопрос своей человеческой природе. Неужели тщеславие отвлекает меня от тех троп, которые должны были бы стать моими? Неужели лишь любящие меня друзья находят во мне проницательный ум и талант? В иные дни я прежде всего вижу свою слабость, неуверенность, переменчивость, словом, я только женщина, женщина до мозга костей, больше, чем какая-либо другая, и отвожу себе место в уголке около очага. Я мечтаю о тихих бесцветных радостях (и только в сердце запираю огонь, что так часто, вспыхнув, окрашивает мои щеки); с нежностью думаю об обязанностях, таких милых и омрачаемых лишь моим одиночеством, мне горько, что ни одно живое существо никогда не придет ко мне, чтобы напомнить мне о прошлом. И вдруг голова у меня в огне, это душа теснит границы ума, стремясь их раздвинуть; мысли обретают голос – одни поют, другие молятся, третьи жалуются; мне кажется, что и глаза мои обращаются внутрь меня. Я едва понимаю сама себя, но в напряжении экзальтации понимаю все вокруг – время, природу Бога. Если я хочу заняться житейскими делами, например почитать, то вынуждена додумывать мысли, изложенные в книге, они всегда кажутся мне незавершенными. Воображение или сердце ведут в высшие сферы, куда автор их не повел. Слова со значением самым обыденным в глазах других – передо мной открывают безграничные горизонты и неодолимо влекут меня по торимым ими сияющим путям. Я вспоминаю никогда мной не виденное, прилетевшее ко мне из других миров или из прошлых жизней. Я похожа на чужестранку: она открывает книгу на неведомом ей языке и вдруг понимает, что это перевод ее собственных произведений, и продолжает читать про себя, улавливая душу, мысль, постигая тайну странных букв, которые по-прежнему остаются в ее глазах непонятными иероглифами.
Если вместо книги я принимаюсь за женскую работу, то иголка дрожит у меня в пальцах, словно перо великого писателя или кисть великого художника. Охваченная творческим порывом до глубин своей души, я верю, что и подрубка платка станет чудом искусства.
А если я не шью, не читаю, а продолжаю мечтать, если я погружаюсь в созерцание, доводящее меня до экстаза, – палящий меня огонь вздымается все выше и мысль моя достигает звезд.
Так вот, как решить… Разрешите мои сомнения, Дюма, – для какого из состояний меня предназначил Господь? Я хочу попять, в чем мое предназначение – в силе или в слабости? Как мне выбрать между ночной женщиной и дневной, полуденной работницей и мечтательной полуночницей? Между кроткой, которую вы любили, и дерзновенной, которой вы иной раз восхищались? Ах, дорогой Дюма, сомнение в себе – самое жестокое из сомнений. Я нуждаюсь в ободрении и критике. Мне очень нужно, чтобы выбор между иголкой и пером был сделан за меня. Если я почувствую, что мне помогают, я доберусь до цели, чего бы мне это ни стоило! Мне внушает ужас заурядность. Если я только женщина , я хочу сжечь все другие никчемные игрушки и ограничить свои притязания тем, чтобы быть любимой и уметь любить самой возвышенной любовью. Заурядность в литературе, Господи Боже мой! – это вульгарная плоская механистичность, тело без души, масло, не дающее света, но оставляющее жирные пятна.