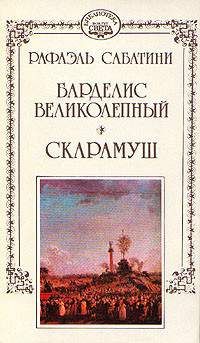Когда я услышал его рассказ о пари, моим первым желанием было войти в комнату и тем самым заставить его замолчать. Но я не прислушался к внутреннему голосу, и вскоре мне пришлось горько пожалеть об этом. Как это получилось, я и сам не знаю. Вероятно, мне хотелось посмотреть, насколько далеко может зайти мой верный оруженосец, которому я доверял все эти годы. Итак, я остался стоять на пороге, пока он не закончил свой рассказ. В заключение он сказал, что собирается сообщить королю — который по счастливой случайности прибыл сегодня в Тулузу — об этой ошибке, немедленно освободить меня и тем самым заслужить мою вечную признательность.
Только я собирался войти, чтобы сурово наказать этого болтливого негодяя, как вдруг услышал какое-то движение внутри. Заскрипели стулья, смолкли голоса, и внезапно я оказался лицом к лицу с самой Роксаланой де Лаведан, которую сопровождали паж и какая-то женщина.
Ее глаза задержались на мне всего на одно мгновение. Свет, льющийся из-за ее спины, нахально осветил мое лицо, крайне испуганное. В эту секунду я понял, что она слышала весь рассказ Роденара. Я почувствовал, что бледнею под ее взглядом, дрожь охватила мое тело, а лоб покрылся холодным потом. Затем она отвела глаза и посмотрела мимо меня на улицу, как будто мы не были знакомы; не могу сказать, как выглядела она — побледнела или покраснела, — так как ее лицо было в тени. Наступила пауза, которая показалась мне бесконечной, хотя на самом деле прошло лишь несколько секунд. Затем, подобрав юбку, она не глядя прошла мимо меня, а я в замешательстве отпрянул в тень, сгорая от стыда, ярости и унижения.
Сопровождавшая ее женщина вопросительно посмотрела на меня исподлобья; ее любопытный паж нахально уставился на меня, и я едва удержался, чтобы пинком не помочь ему спуститься с лестницы.
Наконец они ушли, и до меня донесся пронзительный голос пажа. Он звал конюха, чтобы тот подал карету. Я понял, что она уезжает в Лаведан.
Теперь она знала, что была обманута со всех сторон, сначала мной, а потом, сегодня днем, Шательро, и ее отъезд из Тулузы мог означать только одно — она решила расстаться со мной навсегда. Мне показалось, что в ее мимолетном взгляде мелькнуло удивление, но гордость не позволила ей спросить меня о причинах моего освобождения.
Я все еще стоял там, где она прошла мимо меня, и смотрел ей вслед, пока ее карета не укатила в ночь. В течение нескольких минут я боролся с собой и никак не мог решить, что мне делать. Но отчаяние уже крепко держало меня в своих объятиях.
Я пришел к гостинице «дель'Эпе» ликующим и уверенным в победе. Я пришел признаться ей во всем. Мне казалось, что теперь я легко сделаю это. Я мог сказать ей: «Я поспорил, что завоюю не вас, Роксалана, а некую мадемуазель де Лаведан. Я завоевал вашу любовь, но чтобы у вас не осталось никаких сомнений по поводу моих намерений, я заплатил свой проигрыш и признал себя побежденным. Я передал Шательро и его наследникам мои имения в Барделисе».
О, сколько раз я мысленно повторял эти слова, и я был уверен, я знал, что завоюю ее. А теперь она узнала об этой позорной сделке не от меня, а от другого человека, и все рухнуло.
Роденар заплатит за это — клянусь честью, заплатит! Я опять пал жертвой ярости, которую всегда считал недостойной дворянина, но давать волю которой в последнее время, похоже, стало для меня привычным делом. Как раз в этот момент по ступенькам поднимался конюх. В руке он держал длинный хлыст. Пробормотав «С вашего позволения», я выхватил его и ворвался в комнату.
Мой управляющий все еще рассказывал обо мне. Комната была переполнена, так как Роденар привел с собой еще двадцать моих слуг. Один из них поднял голову, когда я промчался мимо него, и, узнав меня, вскрикнул от удивления. Но Роденар продолжал говорить, увлеченный своим рассказом, не замечая ничего вокруг.
— Господин маркиз, — говорил он, — это дворянин, служить которому большая честь…
На последнем слове он завопил, так как удар моего хлыста обжег его откормленные бока.
— Тебе больше не видеть этой чести, собака! — вскричал я.
Он высоко подпрыгнул, когда хлыст ударил его второй раз. Он круто развернулся. Его лицо было искажено от боли, его отвисшие щеки побледнели от страха, а глаза обезумели от гнева. Увидев меня и мое перекошенное от гнева лицо, он упал на колени и выкрикнул что-то непонятное — в тот момент я вряд ли мог что-нибудь разобрать.
Плеть снова взметнулась в воздух и опустилась на его плечи. Он корчился и стонал от физической и душевной боли. Но я был безжалостен. Своей болтовней он поломал мне жизнь, и за это он должен заплатить единственную цену, которая была ему доступна, — цену физической боли. Вновь и вновь мой хлыст со свистом вонзался в его мягкую белую плоть, а он ползал передо мной на коленях и молил о пощаде. Инстинктивно он приблизился ко мне, чтобы затруднить мои движения, но я отошел назад и предоставил плетке полную свободу действий. Он молитвенно протянул ко мне свои пухлые руки, но плеть поймала их в свое жестокое объятие и оставила красный рубец на белой коже. Он с воплем сунул их под мышки и упал ничком на пол.
Я помню, что кто-то из моих слуг попытался удержать меня, но это подействовало на меня, как ветер на бушующее пламя. Я щелкал хлыстом вокруг себя и кричал им, чтобы они не смели приближаться, если не хотят разделить его участь. Видимо, у меня был настолько устрашающий вид, что они в страхе отступили и молча наблюдали за наказанием своего предводителя.
Сейчас, когда я думаю об этом, меня охватывает ужасный стыд. Я с большим трудом заставил себя написать об этом. И если я оскорбил вас рассказом об этой порке, пусть крайняя необходимость послужит мне оправданием; к сожалению, я не могу найти оправданий для самой порки, не говоря уже о той слепой ярости, которая охватила меня.
На следующий день я уже горько сожалел об этом. Но в тот момент я ничего не соображал. Я просто обезумел, и мое безумие породило эту страшную жестокость.
— Ты смеешь говорить обо мне и моих делах в таверне, негодяй! — кричал я, задыхаясь от гнева. — Надеюсь, в будущем память об этом заставит тебя попридержать свой ядовитый язык.
— Монсеньер! — вопил он. — Misericordenote 63, монсеньер!
— Да, ты получишь пощаду — как раз столько пощады, сколько ты заслуживаешь. Я для этого доверял тебе все эти годы? А разве мой отец не доверял тебе? Ты стал толстым, холеным и самодовольным на службе у меня, и так ты мне отплатил за это? Sangdieu, Роденар! Мой отец повесил бы тебя и за половину того, что ты здесь наговорил сегодня. Собака! Жалкий подлец!
— Монсеньер, — вновь завопил он, — простите! Ради всего святого, простите! Монсеньер, я не знал…