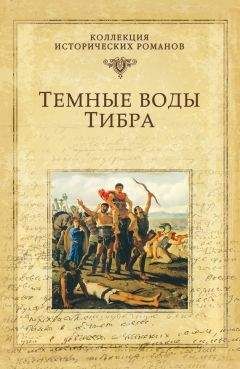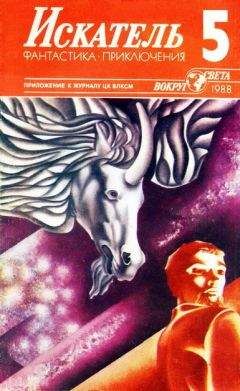Забвение гражданских чувств!
Не он ли сам сделал ее такой, стремясь полностью и до конца подчинить единоличной воле полководца? Не он ли стремился к тому, чтобы солдат был прежде всего солдатом, а уж потом гражданином?
Впрочем, трудно поверить, что мысли старика носили в этот момент такой стройный характер.
Хотя кто знает.
В доме Сульпиция, как всегда, было нечто среднее между заседанием сената и портовым лупанарием. За портьерами и колоннами мелькали и с хихиканьем исчезали какие-то женщины, кажется, привлекательные и не слишком одетые.
Шлялись похмельные рабы, с ужасом узнававшие высокопоставленного гостя и валившиеся ему в ноги.
Повсюду стояли корзины, вазоны, набитые полуувядшими, назойливо, даже утомительно, пахнущими цветами. Кто-то их принес для празднества то ли в честь Венеры, то ли в честь богини Весты, которой дочери народного трибуна вдруг ни с того ни с сего решили посвятить свою невинность.
И бронзовые жаровни дымились с прошлого вечера, по дому плавали облака кисловатого, едкого дыма.
Вон кто-то плавает лицом вниз в бассейне.
Утопленник?
Нет, это мошенник Виктений, кровопийца, ростовщик. Неужели правда утонет?
Нет, перевернулся на спину, безобразно отдувается.
Пейзаж после проигранной битвы.
А Сульпиций сидел у себя в триклинии и ел.
С видимым удовольствием.
Вокруг – под столом и в углах залы – валялись какие-то помятые личности. Справа и слева от голодного трибуна восседало по курчавому, коринфским способом завитому мальчугану. Они, как их учили, старались приласкать хозяина, щекотали его поросший щетиной, непрерывно двигающийся кадык. Ему сейчас было не до них.
Увидев Мария, Сульпиций поморщился. Военачальник имел вид человека, занятого делом, в то время как он здесь…
– Я только что отправил еще пару гонцов. Я согласен отменить закон о всаднических судах или, по крайней мере, так его пересмотреть…
Марий мрачно усмехнулся, боком присаживаясь к столу.
– Не вздумай объявить об этом публично.
– Почему? – Сульпиций заинтересованно посмотрел на собеседника и перестал жевать.
– Основную часть нашего ополчения составят мальчишки из всаднических семей, это уже ясно.
– А-а, это ты правильно сказал. Но понимаешь ли, чтобы выиграть время, я готов подумать и о более серьезных ходах. Мы можем отложить возвращение собственников и понизить ценз, в смысле повысить. Пусть только те, кто должен более, скажем, шести тысяч динариев, будут лишены – да и то, может, на какое-то время – сенаторского достоинства. Ты меня понимаешь?
– Боюсь, что уже поздно.
– Что значит «поздно»?
– Поздно применять эти инструменты. Нужны другие.
– Какие инструменты, что ты несешь. Мы не у врача!
Марий взял со стола кость и швырнул в пробегавшую толстушку, кость попала ей в ляжку.
– Они встретились, Сульпиций.
– Кто они? – спросил народный трибун с набитым ртом, но было ясно, что он великолепно понял, о чем шла речь, и речь эта его пугала.
– Ночью, сегодня, возле Сетии.
– Не может быть!
Марий усмехнулся.
– Консул Квинт Помпей Руф поддержал консула Луция Корнелия Суллу.
Они помолчали. Еда сама собою вываливалась изо рта Сульпиция. После того как выяснилось, что в лагере под Нолой четыре из шести легатов не поддержали Суллу, у засевших узурпаторов в Риме возникла надежда, что замысел бунтовщика рухнет. Рано или поздно трезвость водворится в головах даже самых неуемных.
Ведь это не шутка – выступить против Вечного города. Такого не было никогда!! Стало быть – диктует нам наша мысль – такого никогда и не будет!!
– Армия Суллы в великолепном боевом настроении. Никаких признаков мародерства. Движутся они усиленным маршем. После Сетии они уже прошли Корбу. Все когорты Квинта Помпея Руфа, все до единой, присоединились к мятежникам! А ведь среди них есть такие, что воевали под моим началом под Верцеллами.
В глазах Сульпиция плавал какой-то водянистый ужас.
– Но ты же мне обещал, говорил про верный способ – мол, Сулла взбунтуется против сената, а армия рано или поздно взбунтуется против Суллы!
– Я не только это обещал, но и сам на это надеялся. Очень.
– Так что же делать?
– Во-первых, не поддаваться панике.
– Неважно, видят боги, буду я ей поддаваться или нет, меня все равно прирежут.
Марий кивнул, подтверждая справедливость этих слов.
– Ты как будто этому рад! – взвизгнул хозяин дома.
– Послушай, если мы не будем ничего делать, только рассылать гонцов, которых, по-моему, никто не принимает во внимание, нас точно прирежут, но если мы начнем действовать, бороться изо всех сил…
– Только не рассказывай мне эту глупую сказку про лягушку, которая своими лапами взбила молоко в масло и…
– И все же вылезла из кувшина. Так вот я исхожу из той мысли, что Сулла затеял довольно необычное дело…
– Еще бы.
– Пока у него все идет гладко. Даже слишком гладко. Рано или поздно, я уже произносил сегодня эти слова, у него начнутся неприятности. При столкновении с первым серьезным препятствием.
– Из чего ты собираешься его соорудить, из моих цветников? Или, может, заманим его, как этого ростовщика, в бассейн? Слушай, он, кажется, и правда утонул.
Один из мальчиков помчался проверить, даровал ли Юпитер такое благодеяние городу Риму.
– Ополчение.
– Ополчение?
– Ну да. Я сегодня имел неудовольствие общаться с отпрысками нашей аристократии… Они, конечно, уступают моим африканским ветеранам, но если им как следует объяснить, что драться придется ради спасения даже не кошелька, но своей жизни, они, пожалуй, будут кое на что способны.
Сульпиций неуверенно поморщился, оттолкнул блюдо с едой, впрочем, действительно неаппетитно выглядевшей.
– Ну, что ты говоришь…
– Сражаться придется в городе. На узких улицах, где масса и ярость значат не меньше, чем умение фехтовать или перестраиваться по сигналу центуриона.
В глазах народного трибуна появилась заинтересованность.
– Я уже представляю себе, как мы можем укрепить улицы, ведущие к Эсквилину.
– Почему именно к Эсквилину, а Палатин?
– По всем расчетам, колонны Суллы и Руфа выйдут к Коллинским и Эсквилинским воротам, и, разумеется, Сулла, уверенный, что никакого сопротивления ему здесь не окажут, станет брать город с ходу. Зачем лишний раз подвергать терзаниям мужественные, но столь неустойчивые римские сердца?
– Пожалуй.
– А рабы…
– Да, Марий, да, я уже объявил, что всем, кто явится защищать город, будет дарована свобода, и обещал по сто сестерциев.