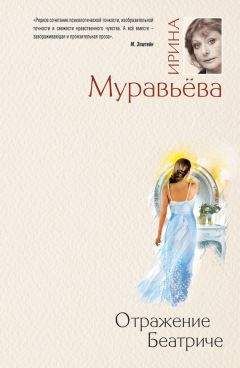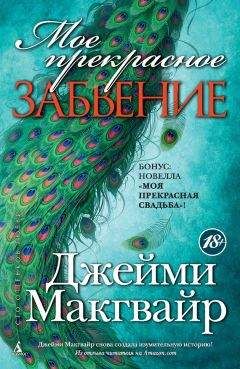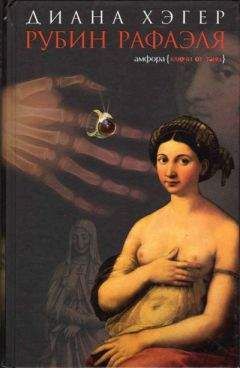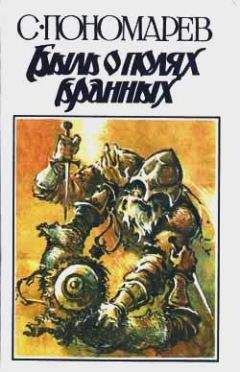Подыми чело свое, Тибр! Может быть еще не все Нумы оставили небо Авзонии[35]. Бывают жребии, и жребии народов в том числе, которые повторяют случившееся с Антеем, сыном земли. Если когда-то, как гласит предание, лавр мог вырасти вдруг на жертвеннике Августа, этого хитрейшего из всех тиранов, то отчего бы ему не зазеленеть снова на твоих берегах, которые когда-то были для него родной землей? Вскормленный слезами, поливаемый кровью, священный лавр опять распустит свои торжественные ветви, в очищенном воздухе, не боясь небесной грозы. Бешеные ветры не перестанут бороться с ним; но его взволнованные листья наполнят свет таким громом, что от него содрогнутся пораженные народы…
Расти, божественное дерево, и пусть твои ветви обвивают чело того, кто высокой доблестью победит и друзей и врагов: но да не обовьются никогда более твои ветви вокруг меча победителя, для того, чтоб закрыть его острие, смертельное для свободы человека!
Боже великий! опусти взгляд свой на нас и посмотри, возможен ли позор, подобный нашему позору[36]: ниспошли вам душу великую, которая показала бы сильным мира, что сила есть благодать неба, поднимающая падших и защищающая немощных. Только и есть одна святая война, и эта война пусть будет вам ниспослана и судьба сбережет молодые листья лавров для того воина, который будет сражаться в этой войне, и для того поэта, который облечет ее в сияние своих песен. Мы, усталые души, подточенные заботами и измученные страданием, что можем дать мы родине? Мольбы и благословение – эти последние цветы, падающие с постели умирающего! Но не пренебрегайте ими… Благословение тех, которые останавливаются в дверях вечности для того, чтобы бросить последний взгляд любви на оставшихся, есть вещь святая и приносит счастье тому, кто принимает его с благоговением.
Для меня уже миновали мечты о твоей славе, Тибр! Мое сердце прельщено страданиями; оно не в силах более ни жалеть, ни даже проклинать: его единственная отрада теперь – смотреть в глаза смерти.
* * *
Много дней прошло с тех пор, как домашний кров напрасно ждет Джакомо Ченчи. Хотя душа Луизы горела еще огнем страсти, но пыл гнева начинал уже уменьшаться в ней: так, когда спадет ветер, большие волны продолжают еще биться о берег; они грозны на вид, но уже не опасны для пловцов. Гордость руководила римской матроной; но она не могла заставить замолкнуть ту сильную привязанность, какую она питала к своему мужу. Лукавые слова Франческо Ченчи о том, что добрая жена должна употребить все усилия, лишь бы вернуть на прямую дорогу сбившегося с пути мужа, сверх ожидания его, беспрестанно приходили ей на ум; она рассуждала о причине отсутствия мужа; одно из двух должно было случиться: или Джакомо изгнал из сердца своего всякую привязанность к ней и к своим детям, или с ним случилось какое-нибудь большое несчастье, и эти шипы одинаково больно кололи ее. Она, сколько могла, старалась искать утешения в своей горести, предаваясь постоянным заботам о детях, которых не оставляла ни на минуту. Меньшой не сходил с её груди; она осыпала его страстными поцелуями, и нередко ребенок от них пугался и плакал. Но слишком часто ласки старших, улыбки и даже слезы меньшого сына, заставали ее с мыслями, обращенными в другую сторону, и в слезах, которые без её ведома текли по её щекам. Хотя она продолжала считать Анджиолину причиной своего несчастья, но по доброте своей натуры не переставала заботиться о ней. В один из таких вечеров, когда тяжелые мысли осаждали ее одна за другою, дверь дома тихонько открылась и Джакомо неожиданно явился перед нею.
Он не поклонился, не сказал ни слова и сел у стола против жены, закрыв лицо руками. Мы уже видели его бледным и дурно одетым; но, Боже, как еще он изменился с тех пор! Растрепанные волосы и борода; шляпа и платье испачканное грязью; глаза воспаленные и окаймленные черными кругами… Луиза была вместе испугана и тронута. Когда душа переполнена страданием, то почти всегда случается, что внимание наше останавливается на каком-нибудь одном предмете, который огорчает более всего прочего. Так и Луиза, видя грязные руки и манжеты своего мужа, почувствовала, что сердце её сжалось более прежнего.
Она взяла ребенка к себе на грудь, с тем самым намерением, с каким далекий вестник мира, покуда звук его голоса еще не может достигнуть, показывает издали оливковую ветвь или машет белым платком. Но всё это не привлекло внимания Джакомо; полагая, что жена изменила ему, он оставался в глубоком раздумье о потерянной любви, погибшей надежде и прошлом счастье. Потом он вдруг вскочил и стал рвать себя за волосы, восклицая хриплым голосом:
– Зачем я пришел сюда? Право, я сам не знаю. – Ах, если б можно было выбросить из сердца привязанности, как груз из корабля, чтоб избежать погибели!.. Но если их нельзя выбросить, по крайней мере всякий может вырвать из груди любовь Вместе с сердцем. – Все может замолкнуть разом и пусть замолкнет. – При этом он направился к двери.
Луиза сказала ему не ласковым, но и не строгим голосом:
– Отец удаляется от детей своих, даже не поцеловав их!
– Где они и кто мои дети? За которого из этих детей можно поручиться, что он мой? Все основано на доверии: это хрупкое стекло! Как я могу поверить языку женщины, слова которой сети, расставленные для того, чтоб повлечь к позору и смерти?
Луиза не знала, как понимать эти речи, исполнившие удивления. Джакомо с горькой усмешкой продолжал:
– Я понимаю, что такой человек, как я, не способный содержать собственного семейства, негодное бревно, источенное червями, проклятое Богом… Я могу внушать к себе только презрение… Я понимаю также и испытываю на себе, что презрение убивает любовь и рождает ненависть. Но зачем так нагло прикрывать честностью проступок? Зачем собственную вину превращать в камень для того, чтоб бросать его в невинного? Довольно, кажется, презрения и стыда, которым покрывали меня, но зачем еще было обрушиваться на меня целым ураганом оскорбительных слов для того, чтоб ослепить мне глаза, как песком и помешать видеть ваше преступление.
– Джакомо, с кем вы говорите?
– Будьте спокойны, я не за тем пришел сюда, чтобы проклинать вас, но для того только, чтобы сказать вам, что вы могли довести меня до отчаяния, но не обмануть. Теперь довольно слов… между нами уж все сказано, – и он снова сделал движение, чтоб уйти.
– Не уходите, Джакомо; именем чести, прошу вас остаться. Когда слова ваши убивают доброе имя Божьего создания, тогда долг честного человека – объяснить их причину. Вы думаете разве, что тайна принадлежит только вам, когда в словах ваших скрывается обвинение меня в позоре?