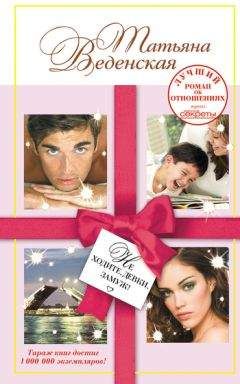Гостья, словно очнувшись, поклонилась ему легким наклоном головы и прошла к спящему человеку. Тронула его за плечо, и тот вскочил, дыбом растопырив лохматые волосы, вскрикнул:
— Путь вижу! Все вижу! Иду!
Женщина горько вздохнула, как всхлипнула, и положила ему на голову длинную, тонкую ладонь:
— Значит, увидел… Только куда ты пойдешь? Твоего пути здесь нет, ты сам от него отрекся. Вспомни, как это было, Андрюшенька, вспомни…
Лохматый человек затих, будто легкая ладонь женщины придавила его, как тяжелый груз, он скукожился, сник, будто мокрый воробей под застрехой, и прошептал:
— Это ведь я тебя вижу, Мария…
— Меня, Андрюшенька. — Она легко, жалостливо погладила его разлохмаченные волосы тонкой ладонью и добавила: — Вот и хорошо, что помнишь…
Тонкий-тонкий, как нитка, готовая в любой момент оборваться, тянулся и тянулся по просторному дому, пронизывая его насквозь, до последнего уголка, то ли плач, то ли стон, то ли жалобный и обессиленный вой — и-и-и-и… Тянулся он, вгоняя в полное отчаяние всех, кто его слышал, без малого сутки. И никто не мог ничего сделать, чтобы облегчить страдания пятилетнего сына городского казначея Христофора Давыдовича Мануйлова, — ни доктор, ни бабка-знахарка, доставленная из ближайшей деревни, ни родная мать, стоявшая все это время на коленях перед кроваткой.
Все было напрасно.
Маленький Андрейка, закатив глаза, синел лицом, сучил ножками и лишь изредка прерывал свой плач-стон, чтобы выкрикнуть, тонко и резко:
— Не надо мне гвоздики забивать в животик! Не надо! Мне больно!
После выкрика снова тянулось, казалось, что бесконечное — и-и-и-и…
Он бредил, не приходя в сознание, голосок его становился все тише, и доктор, под утро уже, вывел из детской Христофора Давыдовича на крыльцо и сказал, смущенно отводя глаза в сторону:
— Посылайте за священником, Христофор Давыдович. Простите меня, но я бессилен. Мужайтесь.
Больше сказать ему было нечего, и доктор спустился с крыльца под тоскливый, сеющий дождик — стоял на дворе глухой, мокрый октябрь.
У Христофора Давыдовича задергалась щека, тогда он прижал ее ладонью и вернулся в дом. В коридоре, прислонившись к стене, бледная после бессонной ночи, стояла Маша, воспитанница Мануйловых, сирота, которую они приютили, когда еще были бездетными. После рождения Андрейки, которого супруги ждали много лет, Маша стала для него самой настоящей нянькой, и пять лет мальчик рос на ее руках — заботливых и любящих. Теперь она смотрела на Христофора Давыдовича, не отрываясь от стены, и темные глаза ее, влажные от слез, умоляли лишь об одном — ну, скажите, скажите…
Христофор Давыдович, не отнимая ладони от щеки, мотнул головой и глухо выговорил:
— Никакой надежды… Скажи кучеру, чтобы запрягал, и езжай в Знаменское, к отцу Александру, мы ведь у него Андрейку крестили…
В скором времени коляска с поднятым верхом выехала из подмосковного городка и по грязной дороге, размытой последними дождями, покатилась в сторону села Знаменского, до которого было верст восемь. Маша, закутанная в теплый платок, вздрагивала от холодной сырости, видела, как тускло занимается хмурое утро, а в памяти у нее все еще звучал тягучий стон-плач Андрейки. Вспомнилась совсем иная дорога до Знаменского, не грязная и разъезженная, как сейчас, а звонкая и сухая, в самой середине цветущего мая. Они ехали крестить Андрейку, все были счастливыми и веселыми, а по обе стороны от дороги буйно шла в рост молодая трава и начинала зацветать черемуха… И так ярко вспомнилась Маше эта поездка, что она перестала вздрагивать, как будто перенеслась в тот солнечный и теплый день, ей даже почудилось, что она ощутила запах цветущей черемухи. Закрыла глаза, и исчезло промозглое октябрьское утро, замедлилась тряская езда коляски и чистый, ровный свет озарил зеленую траву на пригорке. Там, на самой макушке, будто искрилось круглое облако; вдруг оно раздернулось в самой своей середине, и проступил женский лик, на котором сияли всевидящие и всезнающие, скорбные материнские глаза. «Матушка Богородица!» — только и успела ахнуть Маша, ощущая на душе неведомую доселе радость. Хотела припасть на колени, но тихий голос остановил ее: «Торопись, не теряй времени, дом сама узнаешь. Поднимешься на чердак и там найдешь икону. Поставишь в изголовье Андрея, и молитесь об исцелении. А когда час наступит, я тебя призову…» И медленно-медленно исчез лик, словно растаял в искристом облаке.
Маша распахнула глаза. Коляска уже въезжала в крайнюю улицу Знаменского и темный от дождя заброшенный дом, покосившийся и ветхий, огороженный высоким бурьяном, смотрел прямо на нее пустыми окнами.
— Стой! Стой! — закричала Маша кучеру.
Выскочила из коляски и ринулась прямо в гущу бурьяна. Выбралась из него, облепленная колючками, взбежала по шатким ступенькам крыльца в дверной проем и сразу же уперлась в лестницу, которая вела на чердак. Подгнившие перекладины похрустывали, скрипели, но Маша даже не слышала, забираясь все выше. На чердаке, в густой паутине, в пыли, в самом дальнем углу, она сразу же увидела икону, прислоненную к балке. Маша бережно взяла ее в руки, сняла теплый платок и стерла пыль. В полутьме чердака ярко проявился лик Богородицы и засияли материнские глаза…
В колючках, с иконой в руках она предстала перед отцом Александром и сбивчиво, торопливо пересказала ему все случившееся. Молодой батюшка выслушал ее, ни о чем не спросил и скоро уже сидел в коляске, которая, развернувшись, понеслась в обратный путь.
Икону поставили над кроваткой, зажгли лампаду, и голос отца Александра зазвучал в детской горячо и просительно:
— В день печали, нашедшия на ны, к Тебе, Христе Спасе, припадающе, Твоея милости просим. Облегчи болезнь раба Твоего, изреки нам яко и сотнику: иди, се здрав есть отрок…
Никогда еще в недолгой своей жизни Маша не молилась так горячо и так истово, со слезами, которые катились сами собой, а она их даже не замечала.
Все молились.
И вымолили.
Оборвалась невидимая нитка, и стих в доме тонкий плач-стон. Лицо Андрейки зарумянилось, и он уснул, легко посапывая. Во сне перевернулся на бок и для уюта сунул ладошку под голову.
Христофор Давыдович, обнявшись с супругой, плакали от счастья. Взволнованный отец Александр, не отрываясь, смотрел на икону, а Маша, обессиленно опустившись на кресло, никак не могла успокоиться от пережитого ею чуда и все теребила руками концы теплого платка, в который совсем недавно была завернута икона.