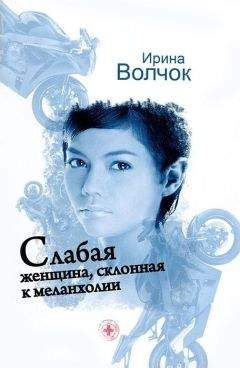…Ото всех я это скрыла, но было ощущение, что А. Белый проваливается в пустоту и меня туда же тянет.
Один раз он вынул из кармана горсть цикламенов и высыпал их на голову С. Кречетова, потом посвятил ему совершенно издевательскую поэму: «Он был — пророк. Она — сибилла в храме». «Аргонавты» сокрушенно качали многоумными головами. Им было не под силу расшифровать туманные намеки, самим владельцем не расшифрованную до сих пор загадку — душу его.
Так, в томлениях, в предчувствии и нарастающей тревоге проходили осень и зима…»
Этой зимой Нина еще была счастлива в своей новой любви, ожидала, что вот-вот Белый падет в ее объятия, как переспевший плод, да, была счастлива, несмотря на то, что в Москву неожиданно приехал Александр Блок с женой, и Белый если и не влюбился с первого взгляда в Любовь Дмитриевну, то был ею ошеломлен. А Блоку явно понравилась Нина — просто понравилась, больше ничего: «Меня Блок издали чувствовал, понимал и относился с нежной осторожностью, точно к цветку, у которого вот-вот облетят лепестки. А может, уже пророчески и знал он, что скоро облетят».
Впрочем, Нина тоже не была обделена пророческими способностями: смотрела на Любовь Дмитриевну (жена Блока ей не поглянулась: «полная молодая дама, преувеличенно и грубовато-нарядная, с хорошенькой белокурой головой, как-то не идущей к слишком массивному телу») — смотрела и смутно чувствовала, что при встрече этих троих уже сковались крепкие звенья той цепи, что трагически связала потом в трагические узлы их судьбу и жизнь.
Случилась той зимой еще одна роковая для нее встреча. Поехали они с Белым в театр на «Вишневый сад». Вечер был необычайно хорош, Нина чувствовала, что победа ее над Белым близка: все казалось значительным, необычайным, полным нового прекрасного смысла. Крупными горящими звездочками кружились снежинки вокруг фонарей. Белые гирлянды небывалых цветов свисали с деревьев… В фойе царил настоящий праздник искусства: здесь собралась вся литературная и артистическая Москва. И вдруг Нина заметила, что Андрей Белый смотрит куда-то с ужасом:
— Смотрите? Видите?.. Напротив, в ложе бенуара. Он! Он смотрит! Ах, как это плохо, плохо, плохо!
И Нина увидела, что напротив, около самого барьера ложи, стоит, опустив руку с биноклем, Брюсов и пристально смотрит на них.
«Точно сквозняком откуда-то подуло! Не знаю, почему, но сердце сжалось предчувствием близкого горя…
В этот вечер неясно для меня Брюсов незримо вошел в мою жизнь, чтобы остаться в ней вечно».
Странно… именно в тот же вечер произошло между Ниной и Белым то, что он назовет в своих записках — «мое падение».
Но если процитировать стихи самого Белого, «погибших дней осталась песня не допета…».
Владислав Ходасевич, который Белого очень хорошо знал, с Ниной дружил, втайне любил ее и вообще был психолог тончайший, милостью Божьей, как никто другой, тонко понимал все струны, на которых играет жизнь в душе человеческой, так оценил — немногословно и точно — эту незавершенную историю любви:
«Женщины волновали Андрея Белого гораздо сильнее, чем принято о нем думать. Однако в этой области с особенною наглядностью проявлялась двойственность его натуры. Тактика у него всегда была одна и та же: он чаровал женщин своим обаянием, почти волшебным, являясь им в мистическом ореоле, заранее как бы исключающем всякую мысль о каких-либо чувственных домогательствах с его стороны. Затем он внезапно давал волю этим домогательствам, и если женщина, пораженная неожиданностью, а иногда и оскорбленная, не отвечала ему взаимностью, он приходил в бешенство. И наоборот: всякий раз, как ему удавалось добиться желаемого результата, он чувствовал себя оскверненным и запятнанным и тоже приходил в бешенство. Случалось и так, что в последнюю минуту перед „падением“ ему удавалось бежать, как прекрасному Иосифу, — но тут он негодовал уже вдвое: и за то, что его соблазнили, и за то, что все-таки недособлазнили…
О, если бы в те времена могли любить просто, во имя того, кого любишь, и во имя себя! Но надо было любить во имя какой-нибудь отвлеченности и на фоне ее. Нина обязана была в данном случае любить Андрея Белого во имя его мистического призвания, в которое верить заставляли себя и она, и он сам. И он должен был являться перед нею не иначе, как в блеске своего сияния — не говорю поддельного, но… символического. Малую правду, свою человеческую, просто человеческую любовь они рядили в одежды правды неизмеримо большей…
О, если бы он просто разлюбил, просто изменил! Но он не разлюбил, а он «бежал от соблазна». Он бежал от Нины, чтобы ее слишком земная любовь не пятнала его чистых риз. Он бежал от нее, чтобы еще ослепительнее сиять перед другой… Женой, облеченной в Солнце.[10] А к Нине ходили его друзья, шепелявые, колченогие мистики, — укорять, обличать, оскорблять: «Сударыня, вы нам чуть не осквернили пророка! Вы отбиваете рыцарей у Жены! Вы играете очень темную роль! Вас инспирирует Зверь, выходящий из бездны».
Так играли словами, коверкая смыслы, коверкая жизни. Впоследствии исковеркали жизнь и самой Жене, облеченной в Солнце, и мужу ее, одному из драгоценнейших русских поэтов».
К Нине ходили не только «колченогие, шепелявые мистики» — ходила к ней и матушка Андрея Белого, в смысле, Бореньки Бугаева, уговаривала не губить «мальчика» и напрямую обвиняла в разврате. Ну что ж, это правда — Нину было в чем обвинять, она вовсе не была такая уж белая голубица, но ведь не младенца совратила, в самом-то деле! Но Белый, и впрямь будто Иосиф Прекрасный, упомянутый Ходасевичем, бежал от нее в Нижний Новгород… Над этим смеялись все, в том числе Брюсов, у которого с Белым были очень сложные отношения восхищения и отвращения одновременно: «Нина Петровская предалась мистике… А Белого мать, спасая от „развратной женщины“, послала на Страстную неделю в Нижн. Новг. Сам он исхудал и серьезно поговаривает, как хорошо бы поступить в монастырь».
Смешно, какие мелочи на него действовали, на что он реагировал так, как будто с него публично сдирали кожу. Были они с Ниной на каком-то литературном вечере, где Бальмонт вдруг начал читать стихи под названием «Любовь орлов». Он только объявил их, но Белый, который увидел в одном этом словосочетании намек на него — от скромности он не умер бы! — и на его отношения с Ниной Петровской, удрал из зала, громко двигая стульями. И немедленно уехал в Нижний Новгород.
Ни в какой монастырь там он не поступил, а когда вернулся, все же не смог отойти от Нины и окончательно заменить «эротические» отношения «братскими»: «Этим летом я ощущаю последствия «падений»: духовный язык природы как бы закрылся от меня». Пережить это Белый не мог — проще оказалось морально уничтожить другого человека, любящую женщину. Для него это было тем более проще, что Нина уже давно влекла его только плотски, в то время как душа и сердце его принадлежали другой женщине: в августе «я заявляю Н.И. Петровской, что я — неумолим; у нас происходит пренеприятная сцена объяснения; она прямо мне бросает, что я — влюблен в Л.Д. Блок; ее проницательность удручает меня; я сам от себя стараюсь скрыть свое чувство».