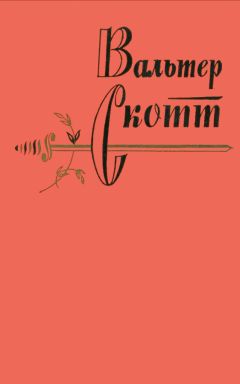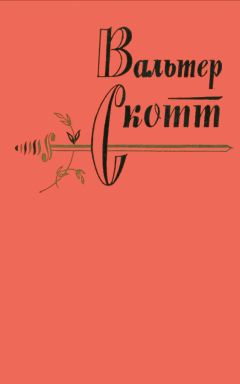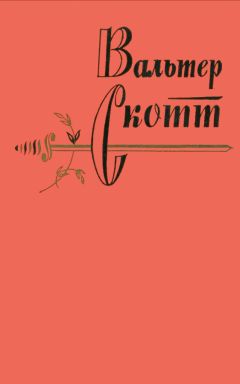— Преклоняюсь перед вашим патриотизмом, графиня, — сказал герцог, — и не стану оспаривать вторую половину вашего возражения, пока не явится какой-нибудь бургундский рыцарь, чтобы доказать ее с мечом в руке. Но что касается красоты ваших дам, то вы несправедливы, графиня, и лучшее тому доказательство — вы сами. Взгляните сюда, — добавил он, указывая на большое зеркало — подарок Венецианской республики и величайшую редкость в те времена, — и скажите, какое сердце устоит против дивных чар, которые вы там видите?
При этих словах бедная принцесса, не в силах дольше выносить пренебрежение жениха, откинулась на спинку кресла с подавленным стоном, разом вернувшим герцога из страны грез к скучной действительности. Графиня Амелина поспешила спросить, не чувствует ли себя плохо ее высочество.
— Да, мне что-то нехорошо… голова заболела, — сказала принцесса, стараясь улыбнуться, — но вы не беспокойтесь, это сейчас пройдет.
Однако ее возрастающая бледность противоречила этим словам, и графиня Амелина, видя, что принцесса готова лишиться чувств, обратилась к герцогу с просьбой позвать кого-нибудь на помощь.
Герцог закусил губу и, проклиная легкомыслие, с каким он дал волю своему языку, бросился в соседнюю комнату за фрейлинами принцессы, которые сейчас же явились со всеми необходимыми в таких случаях средствами. Все стали хлопотать вокруг Жанны, и герцог, как рыцарь и кавалер, не мог не принять участие в общих заботах. Его голос, звучавший теперь почти нежно от жалости к невесте и от сознания своей вины, оказался сильнее всяких лекарств. В ту минуту, когда принцесса начала приходить в себя, в зал вошел король.
В политике наставник он искусный.
Не умаляя дьявола заслуг,
Скажу, что опытного сатану
Он мог бы новым научить соблазнам.
Старинная пьеса
Когда Людовик вошел, он грозно нахмурил брови, как всегда, когда бывал чем-нибудь рассержен. Он окинул зал пронзительным взглядом, и глаза его, как рассказывал впоследствии Квентин, сузились и сверкнули, словно глаза притаившейся в кусте змеи.
Одного быстрого взгляда было для Людовика довольно, чтобы понять причину происходящей суматохи. Он обратился к герцогу Орлеанскому:
— Как, и вы здесь, любезный кузен? — И, повернувшись к Квентину, добавил сурово:
— Так-то ты исполняешь мои приказания?
— Простите его, ваше величество, — сказал герцог, — он исполнил свой долг. Но я узнал, что принцесса здесь, в галерее, и…
— И вы сумели преодолеть все преграды, потому что вас окрыляла любовь, — докончил король, который с отвратительным лицемерием упорно старался выставить герцога пламенным поклонником, разделяющим страсть своей несчастной невесты. — И даже развратить моих часовых, молодой человек?.. Впрочем, чего не простишь влюбленному, который живет par amours[92]!
Герцог Орлеанский поднял голову, как будто хотел что-то возразить, но привычное уважение, или, вернее, страх перед Людовиком, внушенный ему с детства, сковал его язык.
— А Жанне нездоровится? — спросил король и прибавил:
— Ну ничего, Луи, не огорчайтесь: она скоро поправится. Дайте ей руку и проводите в ее покои, а я провожу этих дам.
Слова короля были равносильны приказанию. Герцог Орлеанский подал руку принцессе и повел ее в один конец галереи, а король, сняв перчатку с правой руки, любезно предложил руку графине Изабелле и повел обеих дам к противоположной двери. Почтительно раскланявшись с ними, он постоял на пороге, пока они не скрылись из виду, затем спокойно притворил дверь, запер ее на замок, вынул ключ и сунул его себе за пояс. В эту минуту он был очень похож на старого скрягу, который только тогда и спокоен, когда носит при себе ключ от своих запертых сокровищ.
Медленным шагом, задумчиво потупив глаза в землю, Людовик направился прямо к Квентину Дорварду, который, зная, что он прогневил короля, со страхом ждал его приближения.
— Ты виноват, — сказал Людовик, подойдя к Квентину и глядя на него в упор. — Ты очень виноват и заслуживаешь смерти… Молчи! Не оправдывайся! Какое тебе дело до герцогов и принцесс? Ты должен знать только мои приказания.
— Но что же мне было делать, ваше величество? — промолвил юный воин.
— Что делать! И это спрашиваешь ты — часовой? — ответил король с гневом.
— К чему же тебе оружие? Ты должен был приставить ружье к груди дерзкого ослушника и, если б он отказался удалиться, уложить его на месте. Ступай! В соседнем покое ты увидишь лестницу: спустись по ней во внутренний двор; там ты найдешь Оливье. Пошли его ко мне, а сам иди в казарму. И если ты дорожишь жизнью, не будь так же слаб на язык, как был сегодня слаб на руку.
Довольный, что так дешево отделался, но возмущаясь в душе против той холодной жестокости, которой король, по-видимому, требовал от него при исполнении служебного долга, Дорвард поспешил спуститься по указанной лестнице и, очутившись во дворе, где его ждал Оливье, передал ему королевское приказание. Лукавый брадобрей поклонился, вздохнул, улыбнулся, пожелал молодому человеку доброго вечера еще более мягким и вкрадчивым тоном, чем обыкновенно, и они расстались: Квентин отправился в казармы, а Оливье — к королю.
К сожалению, в этом месте записок, которыми мы пользовались для нашего правдивого рассказа, оказался пропуск, ибо они были написаны главным образом со слов Квентина, который, понятно, не мог сообщить того, что произошло в его отсутствие между королем и его тайным советником. По счастью, в библиотеке замка Оливье нашлась рукописная копия «Chronique Scandaleuse» Жана де Труа[93], гораздо более подробная, чем печатное издание. На полях ее оказались весьма любопытные пометки, сделанные, как мы полагаем, самим Оливье после смерти его господина и прежде чем сам он удостоился давно заслуженной награды — петли. Из того же источника нам удалось почерпнуть содержание нижеприведенного разговора Людовика с его презренным любимцем, разговора, бросающего такой яркий свет на политику этого государя, какого мы, может быть, напрасно искали бы в другом месте.
Когда любимец Людовика вошел в Роландову галерею, он застал короля сидящим в кресле, которое только что оставила его дочь, и погруженным в глубокую задумчивость. Хорошо зная характер своего государя, Оливье бесшумно скользнул в его сторону, чтобы оказаться в поле его зрения, и, когда увидел, что король его заметил, скромно отошел и остановился в отдалении, ожидая, когда с ним заговорят. Первые слова Людовика были далеко не любезны:
— Итак, Оливье, все твои прекрасные планы тают, как снег от южного ветра! Об одном молю теперь пречистую деву Эмбренскую: чтобы они не обрушились нам на голову, как те снежные лавины, о которых швейцарцы рассказывают столько чудес.