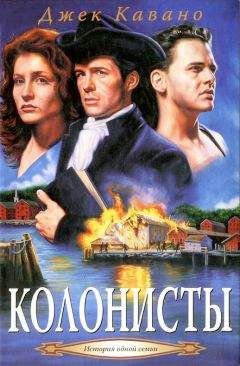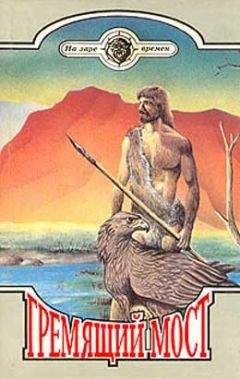Публичное наказание преступников тоже входило в число обычных утренних развлечений в эти праздные дни. На сей раз осужденной была Присцилла Морган.
В сопровождении церковного старосты, который сжимал в руке жезл — символ его власти, — и четырех руководителей общины она шла к подмосткам, где стоял позорный столб. Церковный староста, он же городской глашатай, прокладывал путь среди зевак.
— Посторонись! Дорогу мисс Морган! Сейчас вы станете свидетелями торжества правосудия! Дорогу! Дорогу!
Как воды расступились перед Моисеем, так толпа расступалась перед глашатаем, за которым следовали Эдвард Чонси, Эндрю Хейл, Томас Александр, Хорас Расселл и осужденная. Еще сегодня утром Присцилла наивно полагала, что она готова предстать перед жителями Кембриджа. Ее это даже забавляло. «Интересно, что принято надевать, отправляясь к позорному столбу? — размышляла девушка, рассматривая свой гардероб. — Наверное, что-нибудь скромненькое. Ничего кричащего». И она выбрала синее платье с прилегающим лифом и широкой юбкой. На плечи она накинула белую кружевную косынку, а на голову надела соломенную шляпу с широкими полями, которую обычно носила в солнечную погоду. И только теперь, пробираясь сквозь толпу, она поняла, как была глупа. Эти люди не обращали внимания на ее платье. Оно их просто не интересовало. Их захлестывала ненависть. Конечно, она не рассчитывала на сочувствие, но и увидеть столько злобных лиц не ожидала. Горожан трясло от отвращения и презрения, словно она — разбойница или убийца. Для них существовало только черное и белое. Любой проступок они приравнивали к греху. Присцилла провинилась, и они считали своим долгом поносить ее и глумиться над ней. Так они помогали преступнице очиститься от скверны.
Кроме того, гнев, точно щит, должен был защитить от греха их самих — ибо грех заразителен по своей природе. Горожане выстроились в боевом порядке, чтобы выступить на стороне Господа против зла во всех его отвратительных проявлениях. Для жителей Кембриджа в то майское утро вся мерзость греха воплотилась в этой миниатюрной рыжеволосой девушке в синем платье.
Не только незнакомцы, но и люди, которых Присцилла знала всю жизнь, осыпали ее упреками, оскорблениями и плевками. Их лица были суровы и безжалостны, глаза прищурены, губы кривились в злой усмешке. Самые смелые норовили ударить девушку кулаком — при этом они, словно боясь подцепить заразу, старались побыстрее отдернуть руку.
Зрители окружили помост, на котором возвышался позорный столб. Присцилла, церковный староста и руководители общины поднялись по ступеням и повернулись лицом к толпе. Пока зачитывалось обвинительное заключение, Присцилла глядела поверх голов, стиснув зубы и гордо вздернув подбородок. Она не вслушивалась в невнятное бормотание этих самодовольных людей, назвавших ее злодейкой лишь потому, что она любила читать, учиться и думать и имела смелость не скрывать своего мнения. Если бы в обвинительном заключении было написано именно это, она с радостью признала бы себя виновной. Но до нее долетали совсем другие слова: «тайные собрания», «еретические взгляды», «оскорбление руководства церкви». Присцилла догадывалась: они учинили расправу не только над ней. Они боролись с тайным грехом ее отца — ведь Бенджамин Морган позволил женщине учиться. Но если бы она могла прожить жизнь заново, она поступила бы так же. Минута, проведенная с отцом, стоила часа каторги. «Папочка, — думала она, — как хорошо, что тебя здесь нет. Я переживу жалкую ярость их ничтожных душ. В тысячу раз тяжелее мне было бы видеть, как они причиняют боль тебе».
Когда глашатай дочитал приговор, Присцилла поняла, как сильно она любит своего отца за то, что он учил ее, как сильно ненавидит этих людей за то, что они осуждают его, и как она обижена на Бога за то, что Он позволил им одержать победу.
— Вы должны снять шляпу, мисс Морган.
— Шляпу?
Церковный староста указал на колодки.
— Ах да, шляпа…
Она развязала ленту, сняла шляпу и протянула ее пастору, который растерянно повертел ее в руках.
— Вы не могли бы отдать ее маме? — попросила Присцилла.
Пастор кивнул.
— Голову сюда, руки сюда, — распорядился церковный староста.
Столб стоял перед ней, точно крокодил, распахнувший пасть, и странный маленький человечек приказывал ей положить в эту пасть голову. Колодки представляли собой две грубо отесанные доски с тремя полукруглыми выемками в нижней доске и такими же выемками в верхней доске. Когда доски сдвигали вместе, получались три круглых отверстия. Центральное отверстие предназначалось для шеи, по бокам находились два маленьких отверстия для запястий. Нижняя доска крепилась к столбу, установленному на помосте, и соединялась с верхней ржавой петлей.
Присцилла шагнула к столбу.
— Приподнимите волосы, мисс, — попросил церковный староста. И он показал, как ей это следует сделать.
Жестом, исполненным достоинства, Присцилла приподняла свои огненно-рыжие волосы над головой. Она встала так, что ее шея оказалась в среднем полукруге. Стоя за спиной Присциллы, церковный староста осторожно взял ее правую руку. Волосы упали девушке на лицо.
— Сюда, — сказал он, — вставляя в колодку одно запястье, — и сюда, — добавил он, помещая в углубление второе запястье.
Петля пронзительно взвизгнула, и верхняя доска колодки опустилась. Присцилла услышала, как щелкнул, закрываясь, висячий замок. Толпа зааплодировала. Кое-кто из горожан требовал, чтобы она взглянула на них. Девушка не обращала внимания на крики.
— Это еще не все, мисс Морган.
Присцилла повернула голову и посмотрела на церковного старосту.
— Откройте рот и высуньте язык, — сказал он.
Она покорилась.
Церковный староста достал раздвоенную палочку и стал прикреплять ее к языку девушки.
— Не убирайте язык! — приказал он.
— Мне больно!
— Вам и должно быть больно, мисс Морган. Это наказание.
Присцилла страдальчески сморщилась. Прищепка мешала говорить и не давала сглотнуть слюну. Слюна текла у нее изо рта, а она даже не могла утереться. Спустя минуту-другую Присцилла поняла, что она также лишена возможности вытереть нос и слезящиеся глаза. Это было неприятно и унизительно.
Удостоверившись, что Присцилла надежно прикована к столбу, церковный староста и руководители общины сошли с помоста. Толпа начала редеть. Время от времени к позорному столбу подходили новые зрители. Среди них были и родители с детьми. Мамы и папы приседали на корточки, пытаясь понять, видят ли лицо Присциллы их малыши. Затем они показывали на девушку пальцами и говорили: