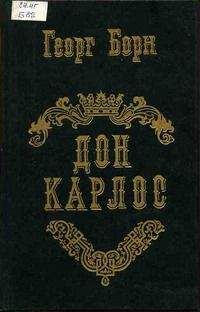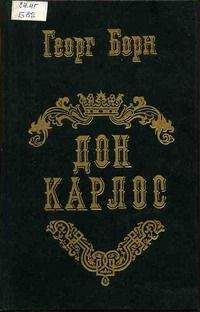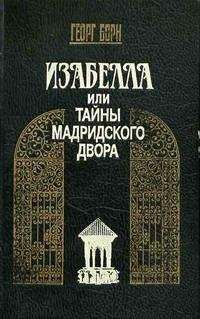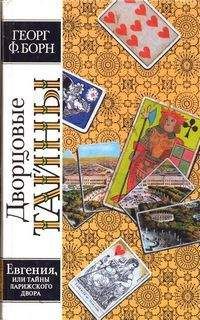Но в то время как прошлое Мануэля и Жиля и само их происхождение были известны, о родителях Антонио никто ничего не знал. Раз как-то в разговоре друзья коснулись этого вопроса, но Антонио попросил их никогда больше" об этом не говорить, не затрагивать его прошлого, воспоминания о котором слишком тяжелы и печальны для него. С тех пор разговор об этом никогда не возобновлялся.
Однако ж Жиля разбирало любопытство, ему хотелось узнать прошлое своего друга, и, наконец, желание это исполнилось. Случайно он встретился с человеком, хорошо знавшим монастырь, в котором воспитывался Антонио, и воспользовался этим, чтобы разузнать о прошлом друга, так интересовавшем его. Полученные сведения он не замедлил передать Мануэлю со всеми подробностями.
— Около двадцати лет тому назад, еще младенцем, Антонио оказался в монастыре, — рассказывал Жиль Мануэлю в дежурном дворцовом зале в описываемый нами вечер, — и с тех пор монастырь стал для него родным домом.
— Стало быть, он тоже сирота, как и я, — заметил Мануэль.
— В монастырских реестрах об этом ничего не сказано, но, судя по некоторым данным, в монастыре предполагают, что родители его были живы, но, вероятно, вследствие каких-то важных причин вынуждены были удалить его от себя и отказаться от него! Одет он был богато, в тонкое вышитое белье, которое сохраняется до сих пор в монастырских кладовых. Впрочем, то, что родители его были живы, это только предположение, утверждать этого никто не может, так как о них не было никаких слухов и сами они никогда не подавали о себе никаких знаков, забросив бедного ребенка в монастырь, где его воспитывали как приемыша. Я уверен, что, отверженный с детства родной семьей, не зная никогда ни привязанности, ни материнской нежности, он не имел понятия ни о каком чувстве любви и преданности.
— Кто знает, — заметил Мануэль, — может быть, за всем этим кроется какая-нибудь семейная драма или затеянная из-за наследства гнусная интрига, жертвой которой он стал. Трудно поверить, что он провел свое детство и юность среди суровых монахов, не зная ни любви, ни привязанности! Сердце у него мягкое, нежное, восприимчивое, в нем нет ни безучастия к людям, ни холодного эгоизма, напротив, он глубоко сочувствует всему происходящему вокруг него, в его душе нет ни желчи, ни тщеславия, ни суетной гордости.
— Антонио я люблю не меньше, чем тебя, — сказал Жиль, — и не подметил в нем ничего такого, что могло бы поколебать мои чувства к нему. Я нимало не осуждаю его за скрытность, я лишь удивляюсь ей, так как, казалось бы, между нами, в нашем дружеском тесном кругу, ее могло бы и не быть, но, видно, причина такой скрытности в его характере, в его натуре, а может быть, в его положении!
— Не говорил ли он тебе на днях, что намеревается оставить дворец графа Кортециллы? — спросил Мануэль.
— Да, и, наверное, у него есть на это какая-то важная причина, только сделать это ему будет нелегко!
— Видимо, начальники переводят его куда-нибудь в другое место, патеры ведь не имеют своей воли.
— Может быть! Скорее всего, он действительно принял это решение не по своей воле, а просто вынужден был подчиниться!
— В таком случае, я, наверное, угадал, — заметил Мануэль, — сказав, что ему дали другое назначение.
— Может быть, он действовал во дворце графа Кортециллы не совсем так, как хотело бы его духовное начальство, и в наказание его переводят на худшее место, как это часто случается и у нас, — сказал Жиль. — Я уверен, что Антонио ни в коем случае не пойдет против своих убеждений и против совести в угоду начальству и никакими наказаниями принудить его к этому нельзя. Он очень тверд в некоторых вещах, даже более чем тверд — непреклонен!
— Да, самостоятельность и непреклонность нашего друга не дадут ему достичь высоких должностей на его поприще, а он был бы к этому очень способен. Увы, это никого не интересует. Для достижения высших должностей требуется одно — слепое, беспрекословное послушание, а на духовном поприще рассуждение и размышление еще в меньшей чести, чем на любой светской службе.
— Молчи, он идет, — прошептал Жиль.
Антонио вошел в дежурный зал дворца. Его движения были быстры и неспокойны, сам он был бледен, взволнован и имел вид человека, лишившегося рассудка.
— Я пришел ненадолго, — сказал он, поклонившись обоим друзьям. — Простите, что не остаюсь с вами как обычно.
— Что случилось? Ты ужасно изменился! — спросил Мануэль.
— Говори же, — сказал Жиль в свою очередь, обращаясь к патеру, — что с тобой?
— Это страшный удар, — почти неслышно ответил Антонио, — он потряс меня до глубины души.
— Тебя оскорбили, понизили по службе? — спросил Мануэль.
Патер с холодной улыбкой покачал головой.
— Неужели вы думаете, что это могло бы меня потрясти, — сказал он презрительно. — Я умею переносить невзгоды, касающиеся лично меня!
— Значит, во дворце графа Кортециллы какое-то несчастье? — спросил нетерпеливо Мануэль. — Говори же наконец!
— Да, во дворце большое несчастье!
— Инес, графиня Инес…
— Инес исчезла! Ночью она ушла потихоньку из дома, не оставив никаких следов!
— Боже мой, что же это значит? — воскликнул Мануэль.
— Графиня Инес не захотела покориться воле графа, она предпочла бегство, предпочла потерять все — отца, кров, свое блестящее положение в свете и свои богатства.
— А, понимаю, все это случилось из-за дона Карлоса!
— Опасаюсь, что так!
— Какой смелый и какой необдуманный шаг! — заметил Жиль. — Бедная неопытная девушка!
— Это ужасно! Нельзя допустить, чтобы она столкнулась с теми опасностями, которыми грозит ей улица, — сказал Мануэль. — Куда она, бедная, денется, что будет делать? Ее ждут только нужда и несчастье! Банды карлистов бродят кругом. Что если она попадет в руки этих разбойников?
— О! Какой ужасный был день, страшная ссора произошла между графом и мной! Разъяренный, взбешенный, он обвинял меня и так грубо говорил со мной, он требовал, чтобы я возвратил ему его дочь, — рассказывал Антонио, бледный как смерть от душевных страданий, наполнявших его душу.
— Он требовал от тебя, чтобы ты возвратил ему дочь? Сумасшедший! — воскликнул Мануэль. — Кто же виноват в этом несчастье, как не он сам!
— Молчи, друг мой.
— Разумеется, он! Хотел принудить свою единственную дочь выйти замуж за дона Карлоса, которого она презирает, — продолжал Мануэль, не слушая Антонио, пытавшегося остановить и успокоить его. — Я пойду к нему и скажу, что он сам виноват в этом, и тогда…
— Не делай этого, друг мой! Граф наказан и без того! Страх и горе лишают его рассудка! Он сам не понимает, что делает! Он бросился на меня со шпагой!