А после того как Шварц рассказал Диме о своих переживаниях о хрупкой темноволосой Берте, которую не сумел спасти, Варгасов окончательно пришел к выводу, что Вилли – тот человек, на которого можно опереться…
Ворота были еще открыты, поэтому запасная калитка, через которую они нередко попадали сюда, не потребовалась. Дима шел по чистеньким, посыпанным ярким песком аллейкам к условленному месту и совершенно механически командовал себе: «Сейчас налево, к Лотхен». И вот уже глаза останавливаются на крупной готической вязи, выбитой на белом мраморе: «Здесь похоронена наша маленькая Лотта…» Теперь – прямо, там будет Лумпи. Точно! «Здесь покоится мое солнышко – Лумпи…» Снова чуть левее, к господину Шнукке, о котором сказано: «Наш милый Шнукке, верный товарищ»…
И, наконец, – шикарная черная полированная стела, с короткой, но такой внушительной надписью: «Хайди фон Пеништрант». И все. Но разве недостаточно? Разве приставка «фон», хоть и у собаки, не говорят сама за себя?
Именно лаконичностью и солидностью надписи привлек Диму к себе «аристократ» Хайди… Не хотелось сидеть около всяких плебеев, чтобы глаза мозолили слюнявые слова вроде: «Здесь лежит мой золотой мальчик…» или «Ты был солнцем моей жизни в радостные и трудные дни…»
Когда Варгасов впервые пригласил Шварца сюда, Вилли очень удивился, и даже переспросил, думая, что он не расслышал:
–ѕСобачье кладбище?
– Да, да, именно собачье. А чем это тебя не устраивает? Кстати, ты был там хоть раз?
– Не был… – Вилли растерянно пожал плечами.
– Вот и хорошо! Посмотрим, как Геринг заботится о своих покойных подопечных.
– О ком?
– Что ты сегодня такой бестолковый? – притворно рассердился Дима. – Ты не знаешь, что Герман Геринг – председатель общества защиты животных? Ну, тогда мне понятно, почему все время задаешь вопросы…
Варгасов положил смущенному Шварцу руку на плечо: ничего, мол, не великое упущение!
Они стояли в тот день у входа в метро, над которым висела огромная буква U, сообщающая о том, что именно здесь можно попасть в подземку. Вокруг никого не было: промозглый апрельский ветер загнал берлинцев в дома. Это было на руку Диме и Вилли – они могли спокойно, не опасаясь, что их подслушают, поговорить.
Чтобы окончательно не замерзнуть, молодые люди все время ходили, подняв воротники своих «регланов». А когда особенно сильный порыв ветра грозил унести их головные уборы, оба хватались ѕ один за небольшую, с ярким перышком, «тирольскую», шляпу, другой ѕ за берет, непрочно сидящий на затылке. Диме надоело мерзнуть, и он натянул перчатки на покрасневшие руки: вот так-то будет лучше, теперь можно спокойно сторожить свою элегантную шляпу! Потом улыбнулся, что-то вспомнив:
– А знаешь, почему мне пришла мысль о собачьем кладбище?
– Понятия не имею!
– Иду я несколько дней назад по улице и вдруг вижу роскошную витрину, где выставлены кроватки с матрацами, коляски, одеяла, подушки, туфельки, сапожки, всевозможные игрушки, вплоть до заводного мотоциклиста в шлеме… Я решил, естественно, что вся эта красота для ребятишек! И вдруг читаю крупную надпись на стекле: «…Благородная собака найдет соответствующий уход только у Майснера». И, наверное, находит! Геринг не дает четвероногих в обиду! Это двуногим, особенно, если они красные, красноватые или даже розовые, он поклялся размозжить голову своим кулаком. А бессловесных тварей он будет защищать с пеной у рта!
Варгасов усмехнулся:
– Это ж надо подумать! Геринг, для которого ничего не стоит убить тысячи людей, нежно любит животных! Какая-то патология…
Неожиданно пошел дождь. Дима глянул на быстро намокавший, темневший прямо на глазах, серый берет Вилли и потащил того в метро. Там было душно и людно. Варгасов вынул блокнот, быстро набросал адрес, схему кладбища, где он уже побывал, и сказал:
– Завтра в семь, у Хайди фон Пеништранта.
С тех пор так и повелось: если им надо было уединиться, они встречались возле старины Хайди, который и не подозревал, какую он оказывает услугу двум мужчинам, грустившим на скамеечке подле его могилы. Ведь не один только Геринг в Германии неравнодушен к животным! Не один Канарис трясется над своей таксой по имени Зегшль! Есть и другие – любящие и скорбящие…
Вилли уже сидел, ссутулившись, на лавочке и смотрел на витиеватые буквы, выбитые в черном мраморе, когда тихонько подошел Дима. И тому, в который уж раз, стало не по себе! Шварц здорово сдал за время их знакомства – осунулся, поблек: видно, его постоянно мучило чувство вины перед Бертой… А каким, наверно, здоровяком он был до страшной «Хрустальной ночи»!
Варгасов в те времена не знал этого парня. Но легко мог представить себе, как он выглядел раньше.
…Все умерло, все сгорело в тот миг, когда полыхало маленькое заведение Ицхока Ашингера, дальнего родственника того знаменитого Ашингера, которому принадлежали кафе и столовые, рассчитанные на среднего берлинца, у которого не такой уж тугой кошелек. А у скромного Ицхока было и того дешевле!
Как-то раз Вилли зашел пообедать в кафе, где было всего несколько столиков под яркими скатертями, и, наверное, больше бы там не появился, если б на смену хозяину, суетливо обслуживающему «важного гостя», не вышла его дочь.
Это была тонюсенькая девушка лет семнадцати, с темными волосами, собранными на затылке в тугой узел, белой, не типичной для брюнеток кожей и огромными, золотисто-карими, грустными глазами.
Это странное выражение сохранялось у Берты всегда. И тогда, когда она, сменив отца, бесшумно захлопотала около Шварца. И тогда, когда тот через несколько дней, непонятно почему, снова пришел в это бедненькое кафе. И тогда, когда уже имел в нем свой определенный стол, став постоянным посетителем, когда лениво отщипывал в ожидании еды корочки от румяных булочек, горкой лежащих в хлебнице, рассеянно просматривая прикрепленные к палке свежие газеты. И даже тогда, когда он пригласил Берту отпраздновать с ним Рождество…
В ту ночь им отовсюду улыбался святой Клаус. Добродушно щурился традиционный жареный поросенок, с традиционной петрушкой во рту. Все вокруг было зелено от еловых веточек. Но глаза у Берты, несмотря на то что она смеялась и танцевала, распустив свой взрослый узел, все равно о чем-то молили.
То же было и в «Сильвеетер нахт», в новогоднюю ночь. Ничто не могло изгнать из этих золотисто-карих глаз умоляющего выражения. Но ведь до «Хрустальной ночи» было еще далеко. Погромы и аресты не носили пока массового характера. Неужели предвидела? Неужели предчувствовала?
А вот Вилли старался в то время не думать, что это так серьезно! Зато, когда он через два дня после той страшной массовой акции вернулся в Берлин из командировки и, все узнав, помчался к старому Ицхоку, он прозрел окончательно. А прозрев, в один час потерял свой яркий румянец и молодой блеск несколько наивных глаз, приобретя седые волосы, которые в его почти белой шевелюре не были заметны.
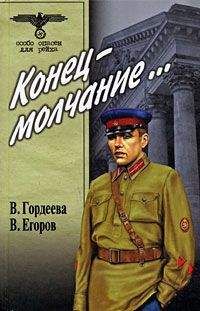
![Владлен Бахнов - Иван Васильевич меняет профессию [альбом]](https://cdn.my-library.info/books/20345/20345.jpg)



