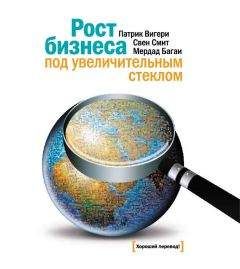Но когда я взглянул на человека, стоявшего по другую сторону от него, я почувствовал холодную дрожь, пробежавшую у меня по спине. хотя я и не мог понять, почему. Это был священник, высокий и сухопарый, одетый в долгополую монашескую рясу, подвязанную вместо пояса обыкновенной веревкой. Черный капюшон прикрывал его голову, но не скрывал лица, которое наполняло меня беспричинным страхом. Овальное по форме, темное и далеко не безобразное, оно словно излучало ужас своей худобой, голодным, алчным выражением и диким пылающим взглядом черных пронзительных глаз, чьи орбиты, казалось, стали вдруг для них слишком тесными, из-за чего они напоминали мне глаза рака на стебельках. Кожа так плотно обтягивала его лицо, что можно было предположить, будто она покрывает лишь кости черепа, мясо на которых давно сгнило.
Хоть я и ощущал непроизвольную дрожь, глядя на него, он завораживал меня, как змея завораживает птичку, и на его тонких губах появилась тень улыбки, когда он обернулся и посмотрел мне в лицо.
С большим трудом я заставил себя отвести от него взгляд, и тут словно мороз пробежал у меня по коже, потому что в группе людей, стоявших позади капитана, солдата в черном и священника, находился человек, которого я знал, человек с родимым пятном на щеке, человек, которого я видел в лесу между Эксетером и Плимутом.
Он меня пока не заметил, насколько я мог судить, так как он смеялся и говорил что-то толстяку, стоявшему рядом с ним, кивая в сторону сэра Джаспера, находившегося справа от меня. Я знал, что он должен вот-вот увидеть меня, и немало встревожился за свою судьбу и судьбу своих товарищей, предвидя последствия этого. Я прикрыл бы лицо руками, если бы они не были связаны; а так я должен был молча ждать, чувствуя, как сердце стучит о мои ребра, точно птица о прутья клетки.
Как я и опасался, он перевел взгляд с маленького рыцаря и остановил его на мне. Он внимательно всматривался, вытягивая шею, чтобы получше меня разглядеть, поскольку фигура священника немного ему мешала, и наконец, поджав губы и наморщив брови, коснулся рукой своего соседа и кивнул в мою сторону, шепча одновременно что-то ему на ухо. Толстяк взглянул на меня, и глаза его округлились от удивления; затем он что-то ответил моему врагу — ибо таковым я его считал, — и оба захохотали, правда украдкой, а мне стало ясно, что судьба моя решена.
Тем временем капитан галеона спросил, кто из нас говорит по-испански, и, когда сэр Джаспер ответил молчаливым поклоном, предложил ему рассказать нашу историю: откуда мы прибыли и куда направлялись.
Сэр Джаспер, вернув себе прежнее мужество и вновь став самим собой, поклялся, что не произнесет ни слова, пока ему не развяжут руки; поскольку никто не усмотрел в том какой-либо опасности, требование его было удовлетворено.
Достойный кавалер тут же отвязал с шеи пурпурный платок и использовал его с большим эффектом, к немалому удовольствию присутствовавших, кроме священника, который молча и неподвижно стоял, точно статуя, ничто не выдавало в нем живого существа, за исключением глаз, блуждавших по нашим лицам и, казалось, жадно пожиравших их, словно мы были для него желанной пищей. Прочистив нос, сэр Джаспер выступил вперед и произнес великолепную и длинную речь, в которой, насколько я мог судить, было столько же лжи, сколько во мне тревоги и страха; в ней он представлял дело так, будто наша «Морская фея» являлась мирным торговым судном, и мы якобы потеряли большую часть команды из-за поразившей нас эпидемии. «Более того, — сказал он, — один из нас все еще страдает от этой болезни». И тут он указал на раненого матроса, который, неправильно истолковав его жест, обнажил плечо и показал всем нагноившуюся рубленую рану. Капитан «Сан-Фернандо» нахмурился и сказал что-то мужчине, стоявшему слева от него, тогда как на лице священника снова мелькнула и исчезла слабая тень усмешки.
После этого на палубу из трюма вынесли кое-какие вещи и оружие из трофеев, захваченных нами у испанцев, которые мы не успели выбросить за борт; все это было предъявлено сэру Джасперу, и он, вежливо улыбаясь, принялся излагать всякие небылицы о каждом из предметов, что, несомненно, свидетельствовало о чрезвычайно пылком его воображении, но никак не совпадало с историей, рассказанной им прежде. Я даже застонал про себя, когда заметил снова тень усмешки на лице священника.
Я в душе на чем свет стоит ругал сэра Джаспера за его безрассудство, поскольку, считая себя обреченным, я полагал, что он своим враньем сует в петлю и свою шею, и шеи моих товарищей, ибо на лицах священника и капитана «Сан-Фернандо» не было ни намека на жалость и милосердие.
Наконец сэр Джаспер закончил декламировать свои фантазии, отвесил низкий поклон и принялся с довольным видом невозмутимо подкручивать кончики своих усов, что он проделывал всегда, когда ему случалось выступить с речью, неважно, на какую тему или перед какой аудиторией.
— Итак, отец мой, — обратился капитан к священнику, — что вы скажете об этой любопытной истории?
— Ересь и ложь, — глухим, низким голосом ответил монах. — Господь направил этих людей в наши руки, и Святая Церковь займется их спасением. Но мне хотелось бы побеседовать с вами наедине, капитан.
— Очень хорошо, — согласился капитан. — И вас, дон Гомес, я попрошу проследовать за нами в каюту.
В ответ на это предложение монах недовольно поморщился, но промолчал, и капитан, отдав приказание стражникам, отвернулся, намереваясь уходить, но тут человек с родимым пятном вежливо тронул его за рукав, отвел немного в сторону и принялся что-то нашептывать на ухо.
— О-о, это уже выглядит весьма странно, — услышал я слова капитана, и он с любопытством посмотрел на меня, прежде чем солдаты сомкнулись вокруг нас и отвели обратно в трюм; вот когда я пожалел, что не тому проломил голову в том памятный день на дороге в Плимут.
— Итак, — сказал сэр Джаспер, когда дверь нашей тюрьмы за нами захлопнулась, — дела у нас, кажется, складываются неважно.
— Во многом благодаря вам, сэр, — холодно заметил я.
— Что ты имеешь в виду? — быстро спросил он.
— Вы забыли, что я знаю латынь, и поэтому понимаю немного по-испански, — ответил я. — Меня просто удивляет, какую несусветную чушь вы наплели этим «донам»!
— Мастер Клефан, ты прав, — покорно согласился он, — и я приношу свои извинения; но я решил именно таким образом показать этим мерзавцам, что мы их ни капельки не боимся!
— Как? — воскликнули мы в один голос.
— А вот так, друзья мои: я подслушал кое-какие их разговоры между собой и, зная язык немного лучше, чем мой юный друг, только что так справедливо упрекнувший меня, понял одно: нас всех собираются казнить, причем каким-то странным способом, суть которого я, сколько ни прислушивался, так и не уяснил; по крайней мере, хоть не повесят, и за то спасибо! Знаете, я сочинил пару куплетов, сам того не желая; моя муза, оказывается, в прекрасной форме, жаль только, что скоро ей придет конец!