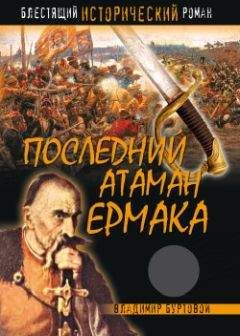— Ничего, а все же… Знаешь историю про кузнеца Егора и про Парфена Косого?.. Нет. Ну так помалкивай. А я, как со спекулянтами ехал, под лавкой сидел и до самой точки все слышал. А была такая история. Показал мельник Парфен на Егора да еще на двоих, что они с партизанами путались… Повели их немцы вечером, да к ночи и постреляли, и пошли себе дальше, потому в одеже ихней не нуждались, — обмундировка на самих была справная… А Парфен сидит дома и думает: пошто мануфактуре пропадать, ежели что не очень испоганено, пригодиться по хозяйству может. Ждали, ждали дома бабы — не идет Парфен… А самим пойти — боязно… Под утро пошли с мужиками, смотрят — лежат двое совсем раздетые, белье рядом, в узелках. А над кузнецом Парфен, наклонившись, пиджак, видно, расстегивал. Да так и сдох… потому тот ему в шею лапами, как клещами, впился, да так и не разжал… до смерти…
Рассказ, по-видимому, произвел сильное впечатление, потому что Димка подобрал салазками ноги, свесившиеся над водою речки, и обернулся назад для чего-то…
— А может, он живой еще тогда был? — высказал предположение Димка, немного подумав.
— Это всяко понимать можно… только навряд… После немцев не оживешь, пуля у них тяжелая…
Однако на следующее же утро Димка настоял все-таки на своем предложении. Когда солнце так ласково пригревало поросшие полынью бугорки, когда воробьи так беспечно чирикали, вылетая из-под соломы крыш, растаяли все страхи, навеянные вечерним рассказом. Кроме того, они вспомнили, что раздевать они никого не собираются, что было все это давным-давно, чуть ли не с год тому назад, — заросли даже могилы густыми клочьями бурьяна.
И в этот день Димка впервые притащил к условленному месту небольшой ломоть сала, а Жиган — тщательно завернутые в бумажку три серные спички.
— Нельзя помногу, — объяснил он. — У Онуфрихи всего две коробки, так надо, чтоб незаметно…
И тогда побег был предрешен окончательно.
* * *
А везде беспокойно бурлила жизнь. Недалеко проходил большой фронт, еще ближе — несколько второстепенных, поменьше. Кругом по селам гонялись то банды за красноармейцами, то красноармейцы за бандами и дрались меж собой.
Крепок атаман Козолуп. У него морщина поперек упрямого лба залегла изломом, и глаза из-под седоватых бровей смотрят тяжело. Второй год нет на него ничьей управы. Первая по силе была у него ватага, первою среди мелких других и осталась.
Хитер, как черт, атаман Левка. У него и конь смеется, оскаливая белые зубы так же, как он сам, и прыгает с места в галоп, изгибаясь, как кошка. Жох-атаман! Но с тех пор, когда отбился он из-под начала Козолупа, с тех пор, когда переманил от того всех гайдуков и забубённых прощелыг, которые помоложе, — сначала глухая, а потом и открытая вражда пошла меж атаманами.
Написал Козолуп приказ поселянам: «Не давать Левке ни сала для людей, ни сена для коней, ни хат для ночлегов».
Засмеялся Левка. Написал приказ, чтобы не гулять девкам с козолуповцами, не стряпать бабам для них хлеба и не слушать мужикам приказов Козолупа.
Прочитали красные оба приказа. Написали третий: «Считать Козолупа и Левку вне закона». И все. А много им расписывать было некогда, потому что здорово гнулся у них главный фронт.
И пошло тут что-то такое, чего и не разберешь. На что уж старый дед Захарий, который на трех войнах был и всякое, что только возможно, видел. Так и тот, сидя на крыльце возле собаки, которой пьяный петлюровец шашкой ухо отрубил, говорил с печальным удивлением:
— О це ж времечко, о то да!
Приезжали сегодня в деревеньку зеленые, человек двадцать. Заходили двое и в Димкину хату, гоготали весело с Головнем о чем-то, пили чашками мутный и терпкий самогон. Димка смотрел из-за печки с любопытством. И в окошке видно было ему, как сидел верхом на соломенной крыше наблюдатель и смотрел не в поле, а на улицу, покрикивая Пелагеевой Маньке:
— Иди сюда, иди сюда, гарнусенька… А, не идешь, сукина дочь, вот я до тебя слизу…
Но не слез, однако, потому что из-за ворот вышел другой, должно, старший, и крикнул сердито:
— О, то я ж тебе слизу, бабник… — И, заметив испуганную Маньку, сказал успокаивающе:
— Та не бойся же, кралечка, идем до дому… — И тихонько пхнул ее пальцем в грудь.
Когда они ушли, Димка, которому давно хотелось узнать вкус самогонки, подошел к столу и из бутылки налил несколько недопитых капель…
— Димка, а мне? — плаксиво заканючил наблюдавший Топ. — А мне?..
— Оставлю, оставлю! — И Димка опрокинул чашку в рот.
В следующую же секунду, отчаянно отплевываясь и разбив чашку, он вылетел на глазах у удивленного Топа из двери.
Возле сараев он застал взволнованного чем-то Жигана.
— Ты что так долго? А я, брат, штуку знаю…
— Какую? — заинтересовался Димка.
— У нас возле хаты яму вырыли длинную поперек дороги.
— Зачем?
— А черт их знает зачем. Может, окоп?
— Нет, мелкая больно. Должно, чтоб не ездил никто…
— Как же можно не ездить? — с сомнением покачал головой Димка. — Тут, брат, штука… И зеленые чего-то торчат, и ямы какие-то роют. Уж не затевают ли чего?
Подумали немного, но ничего не угадали все-таки.
Потом пошли осматривать свои запасы, спрятанные в соломе у проломанной стены осевшего темного сарая. Их было еще немного: два небольших куска сала, краюха сухого хлеба и с десяток спичек. Димка прибавил туда еще тройку и, к великому разочарованию умильно помахивающего хвостом Шмеля, уложил все снова обратно.
* * *
В тот вечер солнце огромным красноватым кругом повисло над горизонтом у Надеждинских полей и заходило понемногу, не торопясь, точно любуясь широким покоем отдыхающей земли.
Далеко в Ольховке, приткнувшейся к опушке Никольского леса, ударил несколько раз колокол. Но не тревожным набатом, как часто, а так просто, мягко-мягко… И когда густые дрожащие звуки мимо соломенных крыш белых хаток дошли до единственного уха старого деда Захария, подивился он немного давно не слыханному спокойному звону. Перекрестившись неторопливо, дед крепко сел на свое покосившееся крылечко. А когда сел, то подумал: «Какой же это завтра праздник будет?» Да так и не решил, потому что престольный в Ольховке уже был, а Спасу — еще рано. И спросил Захарий, постучавши палкой в окошко, у выглянувшей оттуда старушки:
— Горпина, а Горпина, чи завтра у нас воскресенье будет?
— Что ты, старый! — недовольно ответила перепачканная в муке Горпина. — Иде ж после середы воскресенье бувае?
— О то ж и я так думаю…
И покачал головой дед Захарий, что не напрасно ли он крест на лоб наложил и не худой ли это какой звон.