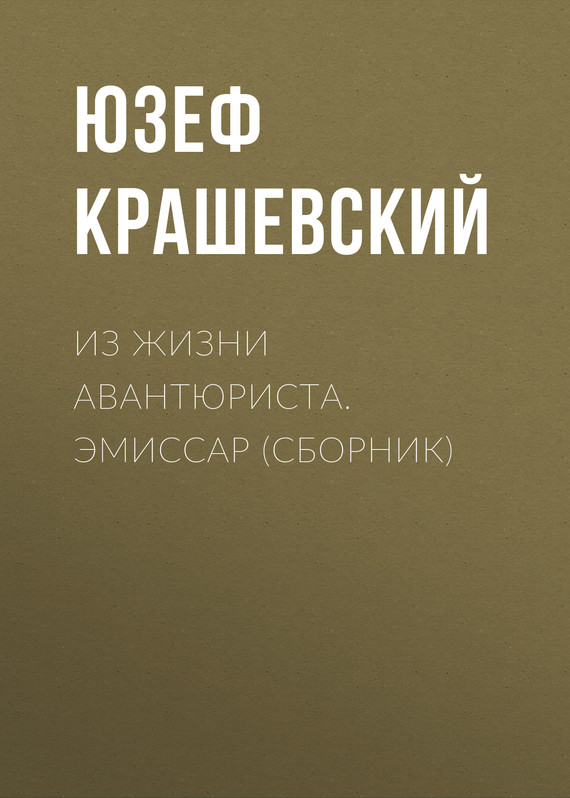лучше объяснить необходимость моего отъезда. Я, глядя на него и зная, что из ему подобных людей либо ещё родственных складывается то общество, о которое я каждую минуту должен был бы тереться, – чувствую, что не могу остаться. Места тут для меня нет, преследовала бы меня клевета, неприязнь, отвращение… а в самом деле не имею уже ни силы, ни охоты умолять, упрашивать.
– Почему ты по графу судишь обо всём обществе? – вставила Тола.
– Потому что граф один из самых благородных представителей, – говорил Теодор, – он может быть мне неприятным, но я отдаю справедливость – это цвет и отбор, за ним остаются страшнейшие призраки.
Вы сами чувствуете, что я принадлежу к тем declassis, к людям без ряда, к мародёрам великой армии, для которых места тут нет.
– Я когда-то слышала, – отозвалась Тола, – что люди его себе завоёвывали.
– Да, гением, энергией, счастьем – я ни одного из этих инструментов не имею.
– Даже энергии.
– Да, пани, – я утратил её.
– Вступай же в монастырь, – прибавила Тола, – потому что иначе я в самом деле не понимаю, куда бы ты мог поместиться.
– Для монастыря не имею достаточно отречения.
– Без энергии, без отречения – а это уже последнее несчастье! – воскликнула Тола.
– Вы хорошо её назвали, – подтвердил Теодор.
– Я знала вас совсем иным.
– А, пани, не отрицаю, но и свет, в котором я тогда обращался, был совсем другим.
Тола пару раз прошлась по покою.
– Свет, – добавил Теодор через мгновение, – да, и я имел побуждения к борьбе… у меня были большие надежды.
– Что отобрало у вас надежды? – спросила она.
– Убеждение, что они были улицей, ведущей в стену, о которую нужно, пожалуй, разбить голову.
Приход панны Терезы прервал разговор.
– Иду за шкатулкой и принесу тебе деньги, – отозвалась Тола, – ты должен их сегодня забрать, я завтра еду.
– Завтра ли? Обязательно завтра?
– Зачем ты спрашиваешь меня об этом? – отворачиваясь, произнесла Тола.
– Потому что хотел бы у вас завтра выпросить. Я стал по-детски суеверен… завтра ещё…
– Дарю тебе завтра…
– Не расплачивайся со мной, пани, сегодня, я буду уверен, что сдержишь мне слово?
– Разве я когда-нибудь подводила?
Мурминский встал и побежал поцеловать ей руку; впил уста в эту дрожащую длань и не мог их от неё оторвать.
С сочувствием и состраданием посмотрела на него Тола, но грустно, точно спрашивала, сумеет ли этого наполовину оцепеневшего человека заново вернуть к жизни. Мурминский, чувствуя, что граф явится снова, и, не желая с ним встретиться во второй раз, попрощался с хозяйкой, ничего ей не говоря.
Назавтра докторова, несмотря на своё великое отвращение к президенту, пошла к нему утром с объявлением, что Мурминский, который собирается в путешествие, просит только президента о ещё одной аудиенции, о показе оригинального документа и о нескольких словах при свидетелях.
– Зачем же нам свидетели? – отозвался довольно небрежно президент. – Я бы сказал, что требование оригинального документа есть уже возмутительным. Что же этот пан думает? Что я акты подделываю?
Он рассмеялся сухим и гневным голосом.
– Но, впрочем, очень хорошо, очень хорошо, документ ему покажу, на разговор приду, а если хочет свидетелей, пусть с собой приведёт Куделку. Зачем это дело размазывать – это же против воли покойной президентши.
Назначили послеполуденный час.
Несчастная докторова, на которую всё падало, должна была сама ехать о том объявить, приглашая вместе Куделку, который молча поклонился, принимая обязанность свидетеля.
Оба прибыли вместе, согласно желанию женщины, на обед к ней, но во время обеда даже о вещах нейтральных разговор не клеился. Хозяйка забавляла их как умела и могла – но и ей в предвидении новых осложнений, новой бури было невесело.
Не могла уже допустить, после грустного опыта, чтобы президент дал сломать себя и победить, поглядывала, поэтому, на Мурминского, как на несчастную жертву.
После обеда неспокойно поглядывали на часы… Подошёл назначенный час… Президент, как обычно, был пунктуален. Его можно было узнать по размеренной походке от прихожей.
Он вошёл с важностью и уверенностью в себе, точно в комнату судебных заседаний, немного сверху поглядывая на собравшихся. В глубоком молчании приветствовали его поклонами издалека. Хозяйка, едва поздоровавшись, шибко выскользнула, чтобы не затягивать неприятного ожидания, которое было неизбежным.
По её уходу, президент, также казавшийся спешащим, нетерпеливо посмотрел на собственные часы и достал из кармана бумагу.
У него явно тряслась рука, лицо, однако, сохраняло спокойное выражение – покрылось только бледностью.
– Прошу прощения за мою поспешность, – начал он сухо и почти официальным тоном начальника, который призывает подчинённых к работе. – Нечего больше делать, вот этот требуемый оригинальный документ…
Говоря это, он разложил на столе бумагу.
Куделка первый, ближе стоящий, подошёл и взял её в руки.
Читал не спеша и рассудительно. Мурминский, не приближаясь даже, стоял сбоку, равнодушный. Старичок крутил добытую лупу, подбирал свет, пробегал глазами сверху донизу бумагу, снизу возвращаясь вверх, что как-то выводило из себя достойного пана.
– Прошу прощения, с позволения, – отозвался он, по-прежнему держа бумагу. – Это документ, который появился, был отредактирован и подписан после отъезда ксендза Заклики?
Президент гордо поглядел.
– Кажется! Сам тембр это доказывает! – произнёс он насмешливым тоном.
Куделка, подняв глаза, долго смотрел в глаза президента, лицо которого, несомненно, возмущённое той смелостью, зарумянилось.
– Гм! Это особенность! Это очень дивная вещь! – отозвался он медленно. – Отсюда рождается щепетильный вопрос, поскольку известно всем тем, которые это неоднократно от покойного ксендза Заклики, который никогда не лгал, слышали, что он уехал только после смерти президентши, когда уже её тело покоилось на катафалке.
Во время этой интерполяции глаза президента начали дико сверкать, он нетерпеливо вскочил – красный и почти посиневший… поднимая руку.
– Как это может быть? Кто это смеет утверждать? – крикнул он громко. – Что же это? Это ложь, унизительная ложь!!
– Простите меня, президент; не ложь это, но, наверное, како-то недоразумение, которое прошу выяснить. Поскольку мои утверждения не основываются на голословном предании о том, что ксендз Заклика говорил, но на свидетельстве также живой особы, со всех мер заслуживающей уважение и веру. Ксендз Лацкий сопровождал прелата, а тот жив и признаёт, что до смерти ложа умирающей не оставляли.
Заканчивая говорить, он посмотрел на президента – тот побледнел и заколебался. В то же время он вытянул дрожащую руку за документом, который Куделка упрямо держал и отклонял, чтобы не дать его коснуться.
– Ксендз Лацкий смеет это утверждать? Что же? Упрошенный, подкупленный или невменяемый, или сумасшедший. Свидетельствовать против нас! – воскликнул президент.
– Не только это утверждает, – добавил Куделка, – но говорит, что готов в случае необходимости признать под присягой. Этот акт, отредактированный с талантом, – говорил он дальше, – несомненно очень ловко подделанный, является и из иных взглядов без сомнения фальшивым.
Говоря это, он сел к окну; президент, от возмущения говорить не в состоянии, следил за ним, ловил документ, но Мурминский, сидящий сбоку, закрыл собой старичка. Тянущийся должен был воздержаться.
– Ба! Ба! Ба! – говорил спокойно профессор,