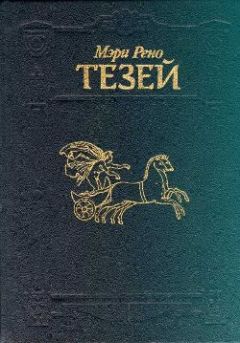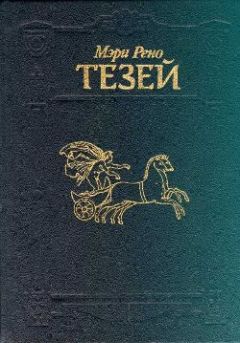— Разумеется, — говорю. — А в Афинах вам приходится ждать, пока вершится справедливость, и народ видит это.
— Да-да, это понятно… Но в таком случае естественно, что я не могу удовлетворить вашу просьбу. Сами посудите, как это будет выглядеть, если вы пойдете выбирать того парня или этого… Люди подумают, что в вашем возрасте вы вряд ли действуете без согласования с отцом — что кто-то из его друзей упросил его вызволить сына, либо вы сами хотите кого-нибудь спасти… Будут беспорядки. Я согласен на все эти проволочки, но бунта допустить не могу. Поверьте мне, я кое-что понимаю в таких делах.
Я убрал руки подальше от него, даже тон сбавил, — только говорю ему:
— Вы здесь пробыли полдня. И вы мне говорите, что думают наши люди?
— Я говорю лишь то, что знаю, не обижайтесь. Вы сами, или скорее ваш отец, выбрали этот обычай. Хорошо, я согласен. Но как он ни тягостен — я прослежу, чтобы он выполнялся. Боюсь, что это мое последнее слово. Куда вы?!..
Голос его изменился, и строй черных воинов шевельнулся, как спина леопарда перед прыжком.
Я обернулся и сказал громко, чтобы все слышали:
— Я иду к своему народу, чтобы разделить жребий бога.
Вокруг все ахнули, отец — я видел — оглядывался по сторонам… Пошел я к своим — и вздрогнул: кто-то тронул меня за плечо. Оборачиваюсь — критянин; он оставил своих людей в шеренге и бегом догнал меня — я и не услышал, такой легкий был у него шаг. Он тихо заговорил мне на ухо:
— Одумайтесь!.. Не давайте славе и блеску одурачить вас, даже самый хороший бычий плясун живет не больше шести месяцев, в лучшем случае… Послушайте, если вы хотите повидать мир — я устрою вам место в Малом Дворце, а поехать вы можете с нами бесплатно…
Теперь мне уже нечего было терять, я мог доставить себе такое удовольствие:
— Послушай, — говорю, — барышня, пришли ко мне своего старшего брата — пусть он мне предложит служить Миносу за плату!..
Отворачиваясь, я успел заметить его взгляд; не то чтобы рассерженный, но цепкий, мстительный.
Перешел я площадь, подошел к Товарищам — они меня затащили в круг, хлопают по спине… Как в добрые старые дни, когда я был царем-на-год. А вокруг по площади пошел какой-то гул. Сначала невнятные голоса, потом громче, громче… Это афиняне радостно приветствовали меня, несмотря на свое горе: «Слава!..» Я изумился сначала, но — «На самом деле, — думаю, — это тоже мой народ. Теперь я могу стоять за них за всех».
Перед отцом поставили стол, а на него две большие круглые чаши с крашеными краями. Отец обратился к народу:
— Афиняне, вот жребии с именами ваших детей. И вот жребий моего сына!
Он бросил звонкий черепок в правую чашу, люди снова закричали: «Слава!..» Потом он подозвал критского офицера — чужестранца, у которого не было здесь родни, — перемешать жребии. Тот сделал это древком копья, вид у него был скучный. Отец воздел руки и призвал Бога, просил его самого выбрать жертвы. Он называл его Сотрясателем Земли, Отцом Быков… — при этих словах я вспомнил проклятие колдуньи, и по спине пошли мурашки… Посмотрел на отца — тот не изменился в лице, держался хорошо.
Сначала тянули для девушек. Жрец Посейдона с завязанными глазами опускал руку в чашу и отдавал черепок отцу, а тот передавал глашатаю прочитать имя. И каждый раз я видел лица родных, глядящих на черепок, — сплошная линия лиц, как длинная бледная змея, полная напряженных глаз. Потом произносилось имя — и семья начинала плакать и причитать; или откуда-то выбегал мужчина и бросался в драку со стражей, пока его не сбивали… И на несколько мгновений все остальные были счастливы, пока не появлялся следующий черепок. Только последняя из них была такая красивая, юная, нежная, что по ней плакал весь народ, не только ее родные. Черные образовали вокруг них полный квадрат и отгородили ото всех… Настала очередь юношей.
Двое первых были из Афин, а потом я услышал имя одного из моих Товарищей. Парня звали Менестий, отец его был судовладелец: семь кораблей у него было. Менестий вышел не колеблясь, только оглянулся дважды: один раз на своего друга поглядел, а второй — на меня. Следующий опять был афинянин. Мать его так закричала — словно ее на части рвали; мальчик побледнел, шел дрожа с головы до ног… «Моя бы никогда не стала так меня срамить, — думаю. — Но мне сейчас не о ней надо тревожиться, а об отце: ему хуже, чем всем остальным, ведь я у него всего один…» Я посмотрел на помост, где он стоял. Жрец как раз опускал руку в чашу за следующим жребием… И в этот момент что-то произошло в толпе, — женщина там в обморок упала или еще что, — и отец обернулся посмотреть что случилось.
Я окаменел. Неподвижность обрушилась на меня, словно Гелиос натянул поводья среди неба… Если бы человек мог оградить себя от подступающего знания — я бы сделал это; но оно уже было, было это знание, раньше чем я смог себе запретить. С десяти лет сидел я в судебной палате и смотрел на людей. И раньше чем начал разбираться в делах — уже знал, без ошибки, кто виноват а кто прав. Сейчас я видел линию глаз, прикованных к урне, одинаковых точно копья солдат… И лишь отец глядел в сторону. Он не боялся.
Наверно, все это длилось один миг — ведь никто вокруг не успел шелохнуться, — но это знание, казалось, медленно вползает мне в сердце, наливает тело холодом… Мне казалось, что позор обволакивает меня всего, растекается грязью по коже… А мысли метались — как собаки, что отыскивают след. Что было на черепке, который он бросил для меня? Если бы был совсем пустой, кто-нибудь мог бы заметить… Кого-нибудь другого написали еще раз?… Быть может, его уже вызвали, и я этого не узнаю никогда… Так я думал. И налетела на меня ярость — как штормовая волна. Забила барабанами в голове, затрясла — я был уже невменяем… А на высоком помосте напротив стоял человек в царской ризе, с царским ожерельем; и я смотрел на него словно на врага, на чужака, плюнувшего мне в лицо перед народом, — и пальцы тянулись к его горлу, как к горлу Керкиона, когда мы дрались за царство.
Я уже почти ничего не понимал, и Дочери Ночи роились вокруг меня, хлопая бронзовыми крыльями, — но пришел Аполлон, Убийца Тьмы, и избавил меня. Он принял облик юноши, что стоял возле меня, и, тронув за плечо, сказал: «Спокойно, Тезей».
Красная пелена спала с моих глаз, я смог говорить, — сказал, что это критяне меня так разозлили, — а потом смог и думать.
«Ну что такого? — думаю. — Что сделал отец? То, что любой бы сделал, если бы мог. А он — царь, ему надо думать о царстве, и я на самом деле здесь нужен… Нельзя же мыслить только по-воински. Кто-то другой пошел за меня на Крит?.. Так я водил таких ребят на войну — и не считал, что это плохо, хоть кто-то из них должен был погибнуть… Так почему же я так ненавижу отца? И себя — еще больше; и жизнь мне опротивела — почему?..»