А вот когда в первые дни апреля сорокового года над головой фюрера появились карты Дании и Норвегии, но особенно когда эти страны внезапно были оккупированы фашистами, вот тогда жители немецкой столицы поняли, что витрина господина Гофмана лучше всяких газет, всякого радио (те боялись опережать события) ориентирует их в грядущих переменах.
Рано утром девятого апреля жители Копенгагена выглянули из окон и увидели танки с крестами, ползшие по улицам. Решили, что идет киносъемка, сели на велосипеды и отправились на службу. Те самые велосипедисты – старые и молодые, мужчины и женщины, атеисты и монахи, – утром еще бодро крутившие педали и чувствовавшие себя свободными гражданами свободной страны, вечером возвращались домой людьми подневольными, чья жизнь уже зависела от установок, от хорошего или плохого настроения оккупантов.
В этот же день немцы высадились в Норвегии.
Девятого апреля люди адмирала с помощью радиостанции, установленной на торговом судне «Видар», находившемся в Ослофиорде, сумели передать прямо в ставку Гитлера двести сорок сообщений).
Операция «Везерюбунг» прошла безупречно. Иначе не стать бы Квислингу премьер-министром и не получить бы свои «тридцать сребреников», равняющихся ста тысячам марок.
А вскоре Гофман вывесил карты Голландии, Бельгии и Люксембурга.
И снова около его фотоателье толпился народ, солидно рассуждая о «немецкой душе» и о новых продуктах, которые теперь потекут в рейх.
В захвате этих стран Гитлеру помогали лидер голландских фашистов Муссерт и руководитель фламандских нацистов Стив де Клерк.
А потом в витрине появилась карта Франции. Прошло совсем немного времени, и одна из великих держав мира пала.
Задолго до рокового для Франции сорокового года, еще до захвата Гитлером власти, он однажды ошарашил своих сообщников заявлением:
– Когда в один прекрасный день я начну войну, то мои войска внезапно появятся на улицах Парижа; средь белого дня они пройдут по улицам… займут министерства, парламент… произойдет невероятное замешательство… Наибольшая внезапность – вернейший залог успеха.
Это случилось: четырнадцатого июня Париж был сдан.
Так закончилась операция «Фаллгельб», означающая покорение Бельгии, Голландии, Люксембурга и Франции.
Как же Гитлер все это предвидел? Он ведь не был знаменитым предсказателем Ганнусеном, которому так верил! Не был и стратегом! Да просто он отлично знал сильных мира сего – как французских, так и немецких, – больше всего на свете боявшихся собственных народов, во все века склонных к революциям…
Варгасов посмотрел на часы: хотелось прийти к Баданову так, чтобы наверняка застать его. Второй раз тратить на это вечер – особого желания не было. И почему так встревожился Скобликов? Ходил человек на собрания русских фашистов, потом перестал ходить – что тут такого? Мог в конце концов и заболеть. Годы-то вон какие!
А Игорь Анатольевич забеспокоился, засуетился… Потом попросил младшего Кесслера проведать старика. Какая от Баданова польза? Воевать он уже не может. На пропагандиста белофашистских идей – тоже мало похож.
Это не Голубев: тот глотку перервет своим недругам! И даже тем, кто еще вчера ходил в приятелях, если ему вдруг покажется, что те позарились на кусок, который может пригодиться ему самому.
Не просто свалит с ног зверским ударом в челюсть, но еще и наступит на лицо, если к тому, что ему приглянулось, надо будет сделать несколько шагов и если поверженного никак нельзя обойти. Да и зачем обходить, когда можно идти напрямик?
Варгасову удалось выяснить – Голубев сам как-то проболтался, а потом и факты нашлись, – что его папаша имел связи с деголлевскими кругами.
Этого оказалось для Лоллинга вполне достаточно! Дима увидел, как августовским вечером молчаливые господа в черных плащах выводили Голубева из его подъезда, как тот что-то пытался им доказать…
Варгасов решил немного посидеть на свежем воздухе: день выдался сухой и солнечный. Конец ноября, а погода отличная. Затянувшееся бабье лето… И вот в такую благодать надо заниматься каким-то там сошедшим со сцены старикашкой. Думать о подонке Голубеве. Будто у них с Максимом Фридриховичем мало по-настоящему важных дел!
Дима опустился на скамейку, где было начертано: «Не для евреев», неподалеку от хорошенькой девочки и не менее хорошенькой молодой мамы.
Мама с дочкой не обратили на унтер-офицера никакого внимания и продолжали о чем-то переговариваться. Прислушавшись, Варгасов понял, что старшая интересуется уроками младшей.
– Ну а теперь, Магда, прочти стихотворение, которое вам задала фрау Рейнефарт.
Девочка нахмурила брови, собираясь с мыслями. А потом объявила:
– «Лорелея». Автор – неизвестен.
И Дима услышал с детства знакомое:
Не знаю, что стало со мною,
Печалью душа смущена.
Мне все не дает покою
Старинная сказка одна…
Пока Магда добиралась до шестого четверостишия, Дима посидел уже мысленно за своей школьной партой – третьей в среднем ряду – рядом с Маринкой Мятельской, побывал на Оленьем валу, у той березы, где на старом одноногом столе всегда ждал Марину свежий «Огонек», и даже постоял в очереди за эскимо в Серебряном бору…
Я знаю, река, свирепея,
Навеки сомкнется над ним,
И это все Лорелея
Сделала пеньем своим…
Как уж там пела сказочная девушка – Дима не знает, хотя беспредельно верит «неизвестному автору». Но Маринка с Ани пели так, что мурашки бегали по самым твердокаменным!
Хорошенькая мама, заметив, что молодой военный обратил на них внимание, заторопилась:
– Идем, Магда! Завтра уборка, мне надо дать указание прислуге.
– Хорошо, мутти. – Девочка была послушной, как почти все здешние дети.
«Завтра ведь пятница, – вспомнил Варгасов. – Святой для немецкой женщины день!» Единственный, в который разрешено выбивать во дворе ковры, перины, одежду… Словом, делать все, что на Оленьем валу делали не только в любой день, но и в любой час, в любом месте.
А тут – лишь один из семи дней в неделю пыльно-суматошный. А в остальные – тишина, чистота, благодать! Принимай гостей. Наноси визиты. Что и делают все, независимо от состояния… У их хозяйки, фрау Шуккарт, как и у многих, не занятых на службе женщин, был даже определенный приемный день.
– Это так удобно, так удобно! – убеждала она Кесслеров. – Во-первых, нет риска, что меня не будет дома, в среду я никуда не отлучаюсь. Во-вторых, меня трудно застать врасплох: что-нибудь, да приготовлю…
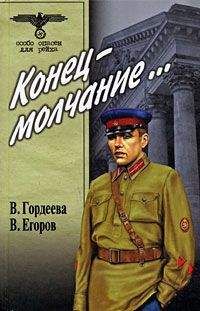
![Владлен Бахнов - Иван Васильевич меняет профессию [альбом]](https://cdn.my-library.info/books/20345/20345.jpg)



