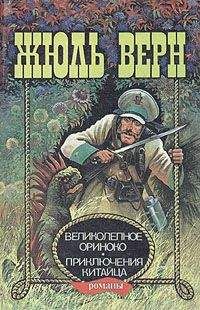— Господин Пьер Кукан де Кукан и шевалье де ля Прэри!
Петр, сопровождаемый шевалье, вошел в Лунный покой в том виде, в каком только что соскочил с седла, весь в поту и в пыли, с лицом, обожженным солнцем. Так было принято, это отвечало этикету, который требовал, чтобы воин, принесший королю весть о битве, представал перед ним без приготовлений и промедления, по возможности черным от порохового дыма и обагренным кровью, не важно чьей, своей или неприятеля. Правда, как мы уже раз заметили, Вальдштейн не был королем, а Петр Кукан возвращался не с поля битвы — но его желали видеть, его ждали, а потому дорожный беспорядок в костюме был правилен и вполне в стиле, тем паче что подчеркивал мужественность его облика. Этот беспорядок так был к лицу нашему герою, что при виде его все, и дамы, и господа, поскорее отставили куда попало свои бокалы, чтобы зааплодировать. Петр же, легким поклоном поблагодарив аплодирующую толпу избранных, быстрыми pas du courtisan приблизился к герцогскому трону, дабы приветствовать его высочество почтительнейшим реверансом. И хотя был Петр очень напряжен и осторожен, он все-таки заметил, как Либуша — а Петр тотчас углядел ее вблизи герцогского трона — прищурила на него левый глаз, точно как та кошка, что сидела на повозке зеленщика, и на миг приложила пальчик к губам, что могло означать только одно: она не хочет, чтобы он обнаружил их знакомство.
— Приветствую вас, vaillant sir [49] рыцарь де Кукан! — весело вскричал герцог. — Дайте же мне взглянуть в лицо человека, по милости которого меня нынче ни свет ни заря вытащили из постели! Право, я рад, что шевалье де ля Прэри вовремя подоспел с моим посланием в Кемптен.
— В Кемптен-то я подоспел вовремя, а вот в Мемминген опоздал, чтобы предотвратить совершаемое тут варварство, когда, как вижу, к мозельскому вину подают сало! — сказал шевалье.
Петр, перебив его, обратился к герцогу по-чешски:
— Прошу Ваше Высочество принять мою благодарность за спасение моей жизни.
На что Вальдштейн, удивленно подняв свои герцогские брови, ответил по-немецки:
— Что это? На какой тарабарщине вы со мной говорите?
Петр дал протечь минутке молчания, которое делили с ним все придворные, а затем молвил на изящно-затейливом немецком языке, перенятом им у императорского двора еще в Праге:
— Не предвидя, что вызову неудовольствие Вашего Высочества, я позволил себе перед лицом Вашего Высочества прибегнуть к моему родному чешскому языку, каковой, полагаю, является родным языком и Вашего Высочества.
— Ну, так вы ошиблись, — изрек герцог. — Не вижу оснований исповедоваться в чем-либо перед кем-либо, но так как равным образом не вижу оснований и для того, чтобы делать из этого тайну, скажу по-военному кратко, точно и прямо, что я — немецкий дворянин, сын немецких родителей, и с языком местного населения родины моей Богемии никогда не соприкасался ни дома, ни в учебных заведениях. Не так ли, Макс?
Максимилиан, племянник герцога, ответил:
— Точно так, mon oncle. [50]
— Приношу извинения Вашему Высочеству, — молвил Петр, — за то, что опрометчиво отвлек мысли Вашего Высочества, без сомнения, занятые вопросами наивысшей важности, на бесплодную ниву. Ибо что такое язык, говоря вообще — человеческий язык, язык как таковой, без относительно к различиям между отдельными языками? Когда я был молод, то считал язык, сиречь способность выражать себя в словах, славой человека, гордым признаком его отличия от животных, превосходства над ними, трофеем его разума, крыльями его духа, инструментом его поэтичности, диадемой на его челе; позднее жизнь научила меня, что истина совершенно в ином: язык, вместо того чтобы быть благословением человека, есть его проклятие и служит не славе его, но позору.
— Вот поразительное утверждение, — сказал герцог, — и оно тем поразительнее, что свою хулу языку вы произносите речью весьма изысканной. Чем же обоснуете вы столь необычную мысль?
— Язык человеческий гораздо сложнее, изощреннее и богаче смыслом, чем язык природных звуков; он способен манить или предостерегать, выражать страх или боль — и все это потому, что и мир человека бесконечно сложнее мира животных. Однако в этом — не преимущество наше, но, напротив, наша беда и наше проклятие. Человек вынужден был изобрести язык прежде всего для того, чтоб оправдывать свои ошибки, расплетать сети, в которых то и дело запутывается по вине собственной неуемности, скупости, себялюбия, близорукости, алчности, невежества и глупости. Языком мы клевещем, предаем и оскорбляем, языком мы неустанно друг перед другом извиняемся, потому что наши кривые пути заставляют нас натыкаться друг на друга. Язык — инструмент лености, ибо им мы приказываем слугам делать за нас то, что сами делать не желаем, тогда как они, будучи мудрее тех, кто им приказывает, молчат.
— Странные мысли, — заметил герцог. — Совершенно безумные, но интересные.
А Петр продолжал:
— Язык необходим нам, чтобы скрывать неприятные факты, в которых мы повинны сами — благодаря языку же; мы пользуемся им для лицемерного успокоения людей, обоснованно встревоженных; языком мы рассказываем о том, что совершили и пережили, ибо желаем хвалиться своим геройством или остроумием. Равные, прямые, естественные отношения между людьми обходятся без слов. Речь — инструмент отнюдь не для распространения истины, ибо истину никто знать не желает, а для распространения лжи и притворства; это не призывы героев, но грубые окрики стражников, средство не утешения, но насмешки. Языком мы спрашиваем дорогу, потому что наш мир запутан и хаотичен, языком объявляют войны и спорят о том, сколько ангелов уместится на кончике иглы, языком мы хвалим Бога, ничего не зная о его существовании, — и языком мы прежде всего болтаем, несем вздоры, сплетничаем и ораторствуем, что, как я с отвращением сознаю, делаю сейчас и я, слуга Вашего Высочества.
— Несомненно, вы несете околесицу, — отозвался герцог, — но хорошим языком. Мой друг отец Жозеф будет, разумеется, рад, когда я сообщу ему, что вы, его протеже, которого я, верный своему слову, разыскал по его желанию, да к тому же спас вам жизнь, — что вы, кроме прочих добродетелей, ценимых в вас отцом Жозефом, еще и прекрасный оратор, отличный мастер словесной гасконады и актер.
— Ваше Высочество называет меня актером? — удивился Петр.
— Вот именно. И незачем на это обижаться, ибо я люблю актеров и ценю их. Так вот, когда я слушал вас и наблюдал, мне вспомнился Шекспир, английский драматург, который устами принца Гамлета внушает актерам декламировать мягко, тонко, не размахивая руками и во всем соблюдая умеренность; далее он советовал им не преувеличивать и эту мягкость и тонкость, но всегда держаться естественно. Именно так поступили и вы, произнося свою речь, так что я просто наслаждался, слушая вас.