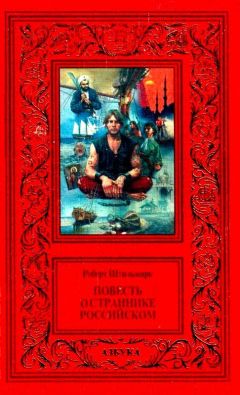Кончились теплые ночи, позволявшие ночевать хоть под открытым небом; дожди м дорожная грязь сменились морозцами; ветер свистел в облетевших ветвях, и лишь в погожие деньки бабьего лета, когда летающая паутина садилась на лицо, удавалось путнику делать большие переходы. Прекратились и случайные заработки, приходилось частенько пробавляться подаянием. «Многие не отвергали моего прошения, кто пищей, а иные деньгами», — вспоминал впоследствии российский странник.
Так дошел Василий Баранщиков до уманских владений графа Потоцкого. Под вечер спросил у встречного украинца, что за село впереди, получил ответ:
— Ладыжинка, на ричцы Ятрани стойить, а до Уманимиста ще двадцять верстов.
Начинало смеркаться, моросил холодный дождик. Василий присматривался к хатам, нет ли где дымка из трубы. Опыт давно научил Василия не искать пристанища у богатых. Поэтому и здесь постучался он в окошко, затянутое бычьим пузырем вместо стекла. Пожилая крестьянка впустила его в дом, где Василий поздоровался еще с двумя женщинами, видимо матерью и сестрою хозяйки. Мать была очень стара, обеим сестрам перевалило давно за сорок.
— Ты блызэнько стань, божа людыно! — зашамкала старуха, порываясь встать с лавки, задвинутой за стол. — Часом нэ в Билу Цэркву ты зибрався?
Василий помнил наизусть курьерскую маршруту. Он подтвердил, что дня через три, четыре доберется и до Белой Церкви.
— Ой! — закричала старуха дочерям. — Вы чулы? Що я вам казала, дурни дивчата? Дочекалысь, дочекалысь заступныка. Садовить вэчэряты господню людыну. Це вин, вин, Ивана Гонты ридна дытына…
Обе дочери только хмурились и отмалчивались. А старуха, отпихнув стол, выбралась из-за него и бестолково суетилась в горнице. Одна из сестер не выдержала:
— Та посыдьтэ вже, мамо, нэ хвылюйтэсь за доброго чоловика!
Незаметно она указала гостю на мать и покрутила пальцем около виска, дескать, не в своем уме старуха. А та все старалась поцеловать у странника руку, тащила его под икону в красный угол и вдруг, словно вовсе позабыв о чужом человеке в доме, притопнула босой ногой, развела руками и запела, хрипло, низко:
А нам сотнык Гонта папир от царыци дав,
Та й давшы, нам всим в голос сказав:
Що царыця кошовому звэлила так служыты[42]…
Седые волосы женщины выбились из-под платка, глаза дико сверкали, она была страшно и жалка в своих отрепьях, босая, с костлявыми жилистыми руками. Приплясывая, она все ковыляла на глинобитном полу и вдруг, споткнувшись о домотканый половик, упала с жалобным криком. Дочери подхватили старую, поднесли к печи и приподняли на высокую лежанку. Кое-как утихомирив безумную, они укрыли ее ветошью, и старуха, всхлипывая и кашляя, уже не порывалась больше вставать. Наконец она и вовсе затихла.
Старшая дочь, Мотря, поправила фитилек у лампадки, добавила в нее гарного масла и собрала ужинать. За едой Василий спросил тихо:
— Кого она так ждет? За чьего сына меня посчитала?
Сестры переглянулись, вздохнули. Младшая вышла проведать скотину. Встала Мотря.
— Про цэ пытаты нэ трэба. Нэ слухай ты ии, нэбогу. Розума вона лышылась, колы батька нашого, чоловикив и трех братив… — Голос женщины осекся. Она принялась убирать со стола посуду и ложки, не глядя на своего гостя.
Василий тоже отошел от стола, перекрестился на икону и поклонился хозяйке. Он уже понял, что судьба привела его в семью, тяжко потрясенную огромной, непоправимой бедой. А женщина опять заговорила:
— Звидци в одну маты ходыла. Тамо, в Кодни, суд ишов, та нэ пустыв ии до сэбэ пан рэгимэнтар Стемпковский. Всэ бачыла вона своимы очима, и як тила их рубалы, и як вишалы. Ивану Гонти дванадцать рэмнив жывого тила выризалы, на чотырнадцять шматкив тило разрубалы, и в чотырнадцяты городах на высэлыцю ти шматкы попрыбывалы. С того часу убогою стала…
— Мотря, а… за что так-то…?
Василий заглянул в глаза крестьянке Мотре. Они казались бесцветными, будто вылинявшими, как ее старая плахта.
— Для чого пытаешь? Чого прычэпывся? Ты що, з нэба звалывси чи вчора родывся? Лягай на лавку, спаты пора, кожух тоби дам, а пэрыны для гостэй нэ прыпасла.
Женщина сердито гремела рогачами, пролила воды на пол, ополаскивая глиняную миску, в сердцах швырнула на лавку овчинный тулуп, и вдруг, разрыдавшись в голос, сама упала на эту постель:
— Господы! До якого часу усэ цэ тэрпиты? Нэмае сылы бильшэ. Всэ сама та сама… Сама и за худобою, сама в поли, и в город на ярмарок и хатусоломою крый, и за дровамы… Хиба цэ жиночэ дило? Пятнадцять рокив так мучусь!
Василий подошел, тронул женщину за плечо.
— Не плачь, Мотря! Желаешь, я тебе какую хочешь мужицкую работу в хате сроблю? Только скажи, чего робить.
— А що робыты? Наробыш ты! А завтра сусиды скажут: Мотря москаля приворожила. Ида подобру, коли ты — божа людына. Нашого горя ложкою нэ вычерпаешь, нэ вэчэря!.. Звидкы ты, бог тэбэ знае!
— Издалече. С Волги-реки, слыхала?
— И ты про нашого Гонту не чув, а мы вашого Пугача знаем. Вин, Пугач, на Волге вашых панив пугав, а в нас тут Зализняк та Гонта шляхту рубалы…
Отходчиво бабье сердце! Только что ругала Мотря «божьего человека», чуть со двора не погнала, а прошло полчаса, отлегло от сердца, и — нет уже ни ожесточения, ни злости! Когда вернулась в горницу младшая сестра, Мотря долго мешала ей уснуть — все говорила да говорила, толкуя страннику о наболевшем, о горькой своей крестьянской доле…
Вот что узнал от нее, а потом и от уманских жителей Василий Баранщиков.
Лет за семнадцать до его прихода в село стояли на Правобережье русские войска. По просьбе польского короля и сейма царица Екатерина прислала войска в Польшу, против фанатиков-конфедератов, захвативших город Бар близ турецкой границы. Поэтому и конфедерация стала называться Барской. Участвовали в ней крупнейшие польские феодалы-магнаты и их приверженцы. Они объявили войну сейму и королю, России и «диссидентам», то есть инакомыслящим, всем некатоликам, жившим в Польше. Наиболее рьяно они стали преследовать православных, а православным было все украинской крестьянство в Польше.
Конечно, смысл этих религиозных преследований заключался не том, чтобы просто заменить церкви костелами, а попов — ксендзами. Паны-конфедераты хотели обратить закабаленных ими крестьян в католичество, чтобы подчинить своему духовному влиянию, сделать покорными, отвлечь от братской России, где православие было государственной религией. Украинские крестьяне надеялись на воссоединение с Россией и упорно отказывались от католичества. Конфедераты стали карать сопротивляющихся с небывалой жестокостью — убийствами, грабежами, пытками, вплоть до сожжения людей заживо. Эти бесчинства панов и шляхты вызвали взрыв народного негодования. Сотнями стекались в леса крестьяне-беженцы, жители сожженых конфедератами сел, беглые казаки, украинцы — солдаты польских войск и милиции, дезертировавшие от своих начальников. Прослышав о готовящемся восстании, прихлынули в Польшу отряды казаков из Запорожской Сечи. Тем временем сейм и король обратились к Екатерине за помощью против конфедератов и повстанцев.