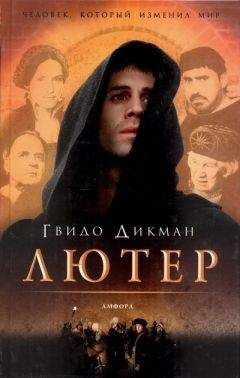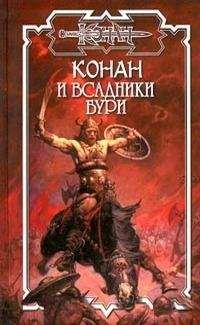Ведь во всех этих упреках должен быть какой-то смысл, подумал Мартин и, поддавшись неистовому порыву, ударил кулаком по столу. Как тяжело, оказывается, добиваться того, чтобы истину увидели и признали. И столь же тяжело переносить одиночество, которое влечет за собой эта борьба за истину. Но Господь освободил его от духовного плена вовсе не для того, чтобы он теперь молчал, он должен передать своим братьям и сестрам весть о том, что позволил ему постичь Отец Небесный.
Погрузившись в свои мысли, Мартин не замечал, что все время выводит на пожелтевшей бумаге одни и те же слова: «плен» и «свобода». Церковь находится сейчас в плену, как когда-то дети израилевы были пленниками в Вавилоне. Но народ мечтает о свободе.
Мартин поднял голову от стола, ибо дверь приоткрылась и в каморку вошли двое. Это были брат Ульрих и Спалатин. Они обменялись многозначительными взглядами, осматриваясь в скудно обставленном помещении.
— Так вот где ты скрываешься! — Брат Ульрих смотрел на Мартина сверху вниз, как отец, застигнувший своего отпрыска за кражей меда. — Тебя уже давно хватились в монастыре. Приор отправил меня на поиски. А здесь, у входа, я встретил господина секретаря.
— А что вы пишете, брат Мартинус? — Спалатин заглянул ему через плечо, силясь прочитать первые строки. — «Христианин — сам господин надо всеми вещами и не подчиняется никому…» — От неожиданности он прищелкнул языком. — Что это такое? Надеюсь, вы не собираетесь провозглашать эту галиматью с церковной кафедры? Курфюрсту это наверняка не понравится, особенно после того, как он из-за вас вынужден был выставить за дверь папского посланника!
В сердцах Мартин сломал свое последнее гусиное перо. Он вскочил со скамьи и кивнул секретарю, призывая его прочитать вторую часть написанного.
Спалатин, вздохнув, пододвинул поближе догорающую свечу и дочитал до конца:
— «Христианин — покорный слуга всех вещей и подчиняется каждому».
Брат Ульрих задумался. Мартин никак не успокоится, всегда ему нужно всё запутать. Кто станет разбираться в этих противоречиях? Он, Ульрих, вырос во Фландрии, стране, разбогатевшей благодаря торговле и шелкоткачеству да еще умению суконщиков. Сильные, самостоятельные фламандские города давно мечтали жить вольно и независимо от всякой власти. В империи же, наоборот, в каждом, самом маленьком княжестве был свой господин, облагавший своих подданных податями и налогами. И сейчас, глядя в напряженное лицо Мартина, Ульрих невольно спрашивал себя, что же будет, если бедный городской люд и крестьяне решат, что из рассуждений Мартина следует, будто бы они имеют право восстать с оружием в руках.
— Ты уже слышал, что курфюрст Фридрих получил от Папы золотую розу как знак высочайшей оценки его заслуг? — спросил Ульрих.
Мартин удивленно поднял голову. Несколько мгновений он что-то обдумывал, потом довольная улыбка заиграла у него на губах. Он быстро схватил заостренную половинку сломанного пера и несколькими штрихами набросал рисунок, изображающий розу с полностью раскрывшимися лепестками. Королева цветов, подумал он, разглядывая собственный рисунок Она бывает красной, как кровь Господа, или же белой, как невинность Богоматери. Но с нею надо быть настороже, ибо у нее острые шипы!
— Если бы я не был простым монахом, в моем гербе обязательно была бы роза, — сказал он.
Спалатин, от которого не ускользнула та страсть, с которой были произнесены эти слова, в раздумье стожил руки на груди. Монах он или не монах — неважно, но нет никаких сомнений в том, что в один прекрасный день он воплотит и это свое желание.
Зима выдалась жестокая и для человека, и для всякой твари земной. Долгие обильные снегопады и морозы привели к тому, что в деревнях стали забивать скотину, чтобы не умереть с голоду. При всем старании крестьян прокормить свои семьи тем зерном, что успели убрать до холодов, это было невозможно. Когда же весеннее солнце наконец милостиво обогрело луга, поля и города, его приветствовали как друга, возвратившегося из дальних странствий. Повсюду царило оживление. Подправляли дома и хлева, пострадавшие от долгих морозов, чинили изгороди вокруг садов и пастбищ. Становилось все теплее, в городах наконец-то слала подсыхать грязь, делавшая улицы непроезжими.
Чиновные люди и знать по всей империи с нетерпением ждали новостей, гадая, кого же выберут императором. Право голоса имели семь курфюрстов — семь князей-выборщиков, четверо светских и трое духовного звания. Люди судачили о тех несметных богатствах, которые в виде богатых подарков, векселей да и просто в виде мешков с деньгами на повозках и судах будто бы доставляли в города на Рейне, в Богемию и Бранденбург, дабы облегчить высоким господам принятие решения, от которого зависело будущее империи.
В июне наконец-то стало понятно, что борьба за императорский трон идет к своему финалу. Курфюрсты собирали свои свиты и отправлялись в долгий путь во Франкфурт-на-Майне. Ибо там, по давно заведенному обычаю, и должны были состояться выборы.
Папа Лев X охотился в окружении своих приближенных, причем охота была в самом разгаре. Трубили рога, и гончие псы, принадлежавшие придворной знати и церковным иерархам, которых Святейший Отец пригласил развлечься, с неистовым лаем мчались по извилистым тропкам. День выдался теплый и солнечный. До самого горизонта на небе не было ни облачка. Солнечные лучи, словно застывшие в медлительной лени, пронизывали густую зелень листвы.
Папа скакал впереди своей свиты на горячем жеребце. Он не отрывал взгляда от двух огромных кабанов, выскочивших из чащи прямо на него и теперь стремительно мчавшихся прочь. Папа торжествующе захохотал и всем своим сильным телом наклонился вперед, готовясь нанести удар копьем, — казалось, будто он взлетает над крупом своего коня.
В этот момент где-то сбоку раздался яростный лай. Папа быстро глянул через плечо и заметил борзых принца Дориа, взявших новый след. С громким лаем они окружили толстый ствол гигантского дерева, возвышающегося среди густого подлеска. В следующее мгновение из подлеска выскочил олень и тут же исчез меж двух утесов. Загонщики со своими барабанами и дудками еще не успели броситься в погоню, а собаки уже умчались за ним вслед.
Папа снова сосредоточился на своих кабанах. С громким криком он пришпорил жеребца и погнал его через поваленные деревья, бурные ручьи и колючий кустарник.
И вдруг он услышал звук охотничьего рожка. Он протрубил трижды и смолк Папа удивленно нахмурился. Он направил своего жеребца в сторону дороги и натянул поводья. Что могло случиться там, у загонщиков, и как они осмелились мешать ему? Он не приказывал давать сигнал к окончанию охоты, напротив — велел продолжать охоту до темноты. Двое всадников из папской свиты с озадаченными лицами выскочили из кустов. Один из них указал на приближавшуюся к ним на лошадях небольшую группу людей, которые, насколько можно было судить на таком расстоянии, были не в охотничьих костюмах, а в мундирах с кожаными воротниками, в руках они держали развевающиеся флажки. Папа прищурился, силясь разглядеть приближавшихся всадников, но тут из чащи появилась стройная фигура принца Дориа, отпрыска одного из самых древних и самых знатных родов Генуи, который уже в течение нескольких дней вместе со своей свитой вкушал прелести папского гостеприимства.