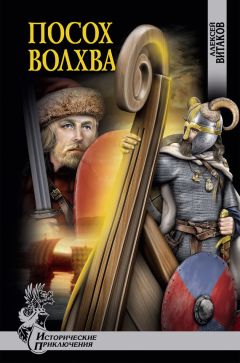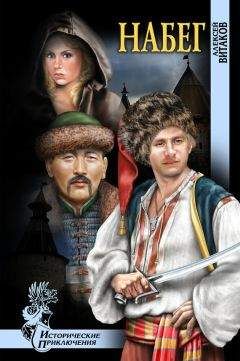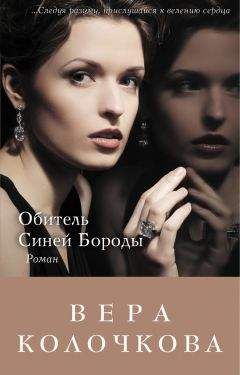Алиха сплюнул под ноги горечь своих слов. От ярости у него зуб на зуб не попадал.
— Потом ты говорил с куманами и позволил нам, о великий Илха, забрать наших убитых товарищей, которые валялись в грязи в одном исподнем, потому что твои новые сородичисодрали с них все до нитки. Мне стоило немалых усилий, чтобы сдержаться и не раскрыться перед Хайду. Он бы не простил сыну Кункурата предательства его слуги.
— Алиха, но ты ведь не знаешь, что произошло со мной!
— Знаю. Вся твоя сотня погибла. Слух об этом долетел до ушей Бату-хана. Кстати, этот Коловрат был действительно великим воином. Его раздавили камнями, но потом похоронили с почестями. Взяли и забросали из камнеметов, потому что подступиться с мечом к нему было невозможно, а воинов Бату-хан предпочитает беречь. Меня тоже похоронят с почестями и, надеюсь, на родине. Наслышан я, что один монгол чудом уцелел, говорят, его выходила русская баба, а он на ней женился. Вот уж не ожидал, что это будешь ты. И вообще зачем мне что-то знать еще, если сейчас мы разделены мечом, если ты, безродный выродок, собачий выкормыш, защищаешь чужие земли, чужой народ, а соплеменников убиваешь, как жертвенных баранов, спящими, когда они не готовы к сопротивлению.
— Алиха, я скоро собирался уйти в монастырь. Я очень сильно любил свою жену и буду хранить ее любовь в себе до конца дней. Война нас опять свела.
— Я знаю монастыри в Китае, знаю бродячих дервишей Востока, видел русов в черных одеждах. Они все достойны уважения. Но не ты! Сегодня ты умрешь, хуже бездомного пса, и кости твои обглодают урусские волки. Воистину, нельзя жалкую тварь сделать благородным человеком. А я-то, индюк, думал: почему это у меня ну никак не получается помочь моему любимому Илхе подняться хотя бы до сотника? А ведь хлопотал за тебя, хотел добыть тебе место в тяжелой сотне.
— Если хочешь насмешить Бога, Алиха, расскажи ему о своих планах. Я не боюсь смерти, потому что ее нет. А перед Христом мы все равны.
— И поэтому ты пришел убивать нас в монгольской одежде? Чего же ты так боишься?
— Монголы тоже переодевались в китайскую одежду и вырезали целые города. Но к тебе я пришел сам, Алиха. А в родной одежде я только с одной целью: убить Хайду и разом покончить с этой войной.
— Тебя погубила врожденная глупость. Умрет Хайду, на его место встанут другие: я, Тосхо, Хуцзир. Впрочем, хватит попусту болтать. Твои новые друзья уже далеко. А ты возьми меч и умри хотя бы просто мужчиной.
Алиха сверкнул глазами в сторону собравшихся воинов:
— Не мешайте нам!
Тысячник рывком вытащил из-за пояса кривой меч и со свистом описал две дуги перед лицом своего бывшего раба. Илха отпрянул, сделал шаг назад и снял с войлока над входом дамасскую саблю, потом глубоко и грустно вздохнул, направляя оружие на соперника.
Алиха наседал, выкручивая сложные фигуры, кресты, дуги, в открытую потешался над Илхой, умышленно оттягивая момент последнего удара. А бывший раб пятился, едва успевая отражать выпады шипящего в воздухе клинка. Пара поединщиков выскочила за порог юрты и оказалась на открытом воздухе. Искры, летящие от клинков, смешались с искрами гудящих костров. Сщюх… На правом плече Илхи лопнул кожаный наплечник — кривую щель стала быстро заполнять кровь. Алая струйка побежала по рукаву, скатилась на черную вытоптанную землю и, огибая преграды из камешков и травинок, устремилась к лесу. Скоро правая рука бывшего лучника непобедимой армии начала неметь и плохо слушаться, а потом и вовсе опустилась, вместе с мечом. Алиха криво усмехнулся, тоже опустил оружие и, подойдя к сопернику, резко ударил ногой в живот. Илха упал навзничь, сабля глухо звякнула. Тысячник злобно топнул по лежащему на камне металлу, и клинок сломался пополам. Одна половина осталась в руке Илхи, другая отлетела на несколько шагов и зарылась в траву. Алиха упер острие своего клинка в грудь поверженного, поднял глаза к небу и вогнал меч в тело, туда, где должно биться сердце. Провернул лезвие в ране и дожал обеими руками, пригвождая к земле бывшего слугу. Из-за холма резко и протяжно взревел лось. В тот же миг порыв ветра метнул сноп искр из костра в лицо Алихе. От неожиданности тысячник дернулся, чуть подался вперед и, споткнувшись о ноги противника, упал прямо на него. Обломок дамасской сабли вонзился ему в горло, пробил основание черепа и кровавым призраком вышел наружу. Алиха, пытаясь из последних сил что-то сказать, только крепче стискивал Илху, прижимая его голову к своей груди.
— Если хочешь насмешить Бога, Алиха, то расскажи ему… — это были последние слова, которые услышал тысячник.
Потом воины, прикладывая невероятные усилия, будут пытаться разъединить тела. Хайду, видя это, не выдержит и прикажет похоронить хозяина и бывшего раба в одной могиле, не отнимая друг от друга.
Изможденные, израненные, едва держащиеся на ногах воины в волчьих шапках стояли ощетинившимся кольцом. Всего пятеро. Другие или мертвы, или успели покинуть неприятельский лагерь. Оставшиеся приготовились сражаться насмерть. Монголов погибло в несколько раз больше. Хайду не хотел терять еще людей. Можно было приказать воинам, и те бы растащили арканами, повалили и связали пятерку смертников. Но что потом? В рабы они не годятся: наверняка придумают, как расстаться с жизнью; предлагать службу в войске на правах покоренных — а было бы неплохо — тоже глупо: неизвестно, что от них ожидать в первом же бою. Хайду дал знак китайскому инженеру. По примеру Бату-хана, подкатили стенобитное орудие. Воины расступились. Заскрипели рычаги. Потом машина громко рявкнула, и в кривичей полетели камни.
Джихангир приказал похоронить убитых монголов и русов в общей могиле с соответствующими почестями.
…Все люди полны света. Только я один подобен тому, кто погружен во мрак. Все люди пытливы, только я один равнодушен. Я подобен тому, кто несется в мирском пространстве и не знает, где ему остановиться. Все люди проявляют свою способность, и только я один похож на глупого и низкого…
Дао Дэ Цзин, книга первая, стих двадцатый
Монгольское войско двигалось по глинистой, скользкой от дождя дороге медленно, словно через силу. Неподкованные копыта лошадей разъезжались и проваливались в чавкающую грязь. Густые гривы отяжелели от холодной воды и снега. Идти опятиконь уже не было никакого смысла: русы узнали о настоящей численности. Лучше поберечь силы коней, поэтому войлоки сгрузили на арбы, которые волы тянули теперь в хвосте вереницы. Хайду, сидя на белом, как молоко кобылицы, Ордосе, всматривался с высоты небольшого увала в усталые лица всадников в поисках поддержки и грозной степной воли, той самой, которая вела этих людей от победы к победе, которая не позволяла мириться с утратами и поражениями. И джихангир верил, что его войско по-прежнему несокрушимо. За истекшие сутки он лишился двух лучших тысячников и почти тысячи воинов, у стольких же имелись разной тяжести ранения. Таких больших потерь монголы не ожидали. Со времен схваток с самаркандским Джелалем не встречалось достойных противников всадникам, ведущим свой род от белого волка. Сердце Хайду терзала боль не столько от военных неудач в начале кампании, сколько от ощущения ненужности этого предприятия. В чем, собственно, провинились смоляне? Всего лишь в том, что поддержали Козельск, и лучшая армия мира просидела под стенами маленького городка семь недель и даже была вынуждена изобразить отступление? И только когда разведчики донесли, что смоленская рать под предводительством какого-то Меркурия — да кто он такой, прах его побери? — покинула Козельск, монголы вернулись и за час приступом взяли город, который потом разрушили, а жителей перебили. Но ведь это война. Смоляне защищали побратимов, и в том лишь неправы, что не рассчитали свои силы.