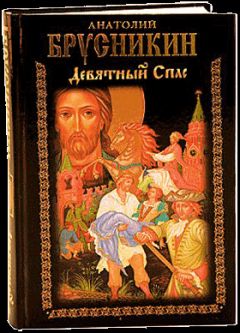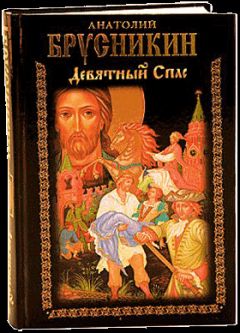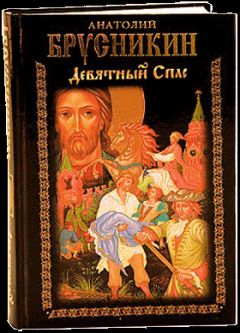Стал Илья ждать, что дорогая гостья не сегодня-завтра проснётся. Боялся, что очнётся без него и напугается, поэтому не отходил от ложа ни днём, ни ночью. Но неделя шла за неделей, а колдовские чары не спадали.
Уж и снег сошёл, и река унесла прочь ломаные льдины, все птицы давно вернулись.
И тогда проклял себя Илья за своекорыстие и глупое доверие к словам полоумного мальчишки.
Что же он, медведь берложный, натворил! Надо было хворую девочку к лекарю везти. Чтоб отворил кровь по всей науке, врачевал по книгам! На то их, лекарей, и учат. Ныне же, после четырех месяцев забытья, сиротку, поди, и немец-дохтур не подымет! Ай, беда, беда!
* * *
В половине апреля поручика Зеркалова неотложно вызвал к себе князь-кесарь. Стрелецкий розыск давно закончился, никакого важного дела Автоном Львович на ту пору не вёл, ну и затревожился. Что за срочность? Начальник Преображенского приказа был одним из очень немногих людей, кто вызывал в Зеркалове если не робость, то во всяком случае сильную опаску. Ход мыслей князя Ромодановского был тёмен, нрав крут, а решения подчас неожиданны. Своих помощников, даже самых доверенных, Фёдор Юрьевич любил держать в напряжении, или, как он говорил, «на цыпках».
В головной терем Автоном вошёл браво, грудь вперёд, плечи в стороны. Сабля на подхвате, шпоры лихо звенят. Всем своим видом являл: готов ради государевой службы хоть в огонь, хоть в воду.
– Не звени, сядь, – поморщился князь на такое шумство.
В каморе у него было сумрачно – могущественный человек не любил яркого света. Одутловатый, в мягкой шапочке на коротко стриженной голове, он устало сидел у стола, потягивая из ковша. Всякому в приказе было известно, что воды Фёдор Юрьевич не пьёт, только ренское. Кувшина по четыре за день выдувает. Уже много лет никто не видал его ни вовсе трезвым, ни сильно пьяным, он вечно пребывал где-то посерёдке. И расположение духа тоже колебалось в нешироких пределах – от злобно-глумливого до ехидно-насмешливого. Должно быть, на страшной своей службе он слишком хорошо познал человеческую природу во всей её мерзости и смрадности, иной же стороны, небесной, узнать ему было неоткуда. Оттого на мятом, вислоусом лице навечно застыла брезгливая мина, до недавнего времени прикрытая окладистой боярской бородой. Но государь собственными рученьками отстриг доверенному министру сие мужественное украшение, и лицо первейшего душегуба России открылось взорам во всём своём зверообразии.
Глаза из-за припухших век смотрели на поручика весело и недобро.
– Эге-ге-е-е, – протянул Ромодановский тоном, от которого у Автонома внутри всё поджалось, и нацепил на нос серебряные очки. – Сего двести восьмого года октября двадцать шестого дня подавал ты, приказной поручик Автоном Зеркалов, чрез меня великому государю челобитную, чтобы сельцо Сагдеево, вотчину помершего Матвея Минина сына Милославского, твоего свойственника, за неоставлением у него потомства, отписать на тебя, Зеркалова, за твою нуждишку и ради государевой службы старания.
Зеркалов сглотнул. Решения по этому вопросу он ждал давно. Заполучить бы Сагдеево – и можно приступать к поискам. Неужто решилось?.
Князь, мучитель, задумчиво пожевал ус – будто взвешивал.
– Что ж, рвения ты явил немало. Милославское семя, какое ещё оставалось, подскрёб до донышка. Верно и то, что покойному сагдеевскому владельцу ты шурин. А дочка, которая наследница, без следа пропала, так?
– Сгинула, князь батюшка, – подтвердил Автоном. – Как родитель её от удара помер, напугалась очень, в лес сбежала. А там волки, медведи. Зимой охотники в лесу косточки нашли.
– Ну да, ну да… Косточки… Коли так, оно, конечно. Твоё должно быть Сагдеево.
Лицо поручика утратило обычное выражение хмурой сосредоточенности – просияло. Он пал на колени:
– Фёдор Юрьич! Отслужу! Крови, жизни своей…
Ромодановский, однако, поднял руку: помолчи.
– Тут только вот что… Ныне на рассвете в государевом селе Воздвиженском, что по Троицкой дороге, к приказной избе неведомо кем подброшена отроковица. В бесчувствии, сама укутана в медвежью шкуру, а при отроковице грамотка.
Взял со стола листок серой бумаги, прочёл: «Се благородная княжна Василиса Матвеева дочь Милославская, схищенная татями и невозвратно в сомлении чувств пребывающа». Что скажешь, Автоном?
– Не может того быть! Как это – «невозвратно в сомлении»? С осени? Дозволь на грамотку посмотреть, твоя милость.
– На, смотри.
Зеркалов впился глазами в строчки.
– Тати этак не сумеют. А и приказные тож по-другому буквицы выводят. Дворянской рукой писано!
– Дворяне тоже татями бывают. – Князь-кесарь прихлебнул из ковша, усмешливо разглядывая поручика. – Но проверить надо, верно ль, что отроковица – пропавшая княжна. Её привезли сюда, в телеге лежит. Вот я и подумал, кому как не тебе опознать – она иль не она.
– Где та телега?! – вскричал Автоном Львович. – Неужто я родной племянницы не спознаю! Много ль у меня и родных-то? Лишь сынок да она! Вели, чтоб меня скорей к телеге отвели!
– Отрадно видеть, когда в подчинённых с суровостью к врагам уживается родственное мягкодушие. – Сказано было вроде всерьёз, хотя кто его, сатану старого, разберёт. – Сам тебя отведу. Дело редкое, небывалое.
Они вышли через чёрную дверь на задний двор. Там, возле караульных, стояла телега.
Зеркалов к ней так и бросился. Откинул звериную шкуру, впился глазами в белое детское личико с сомкнутыми, чуть подрагивающими ресничками.
– Василисушка! Племяшенька моя! Сыскалась!
И рукой по глазам, будто слезу смахивает. Сзади князь-кесарь потрепал по плечу.
– Ну то-то. Что сия девчонка – княжна Милославская, уже без тебя установили. Скажу по правде: был ты у меня в подозрении. Не извёл ли племянницу ради наследства? Соврал бы сейчас, тут тебе и конец.
Автоном замахал руками, словно услыхал невообразимое. Губы искривил, захлопал глазами, как положено тяжко обиженному.
– Фё… Фёдор Юрьич! Да я… Да она…
– Молчи. Знаю я вас, бесов. И голова с плеч у тебя полетела бы не за племянницу – за то, что мне посмел набрехать. Запомни это.
Не раз за долгую жизнь проходил Автоном по самому краешку бездны, но, пожалуй, никогда ещё она не разверзалась под его ногами в столь гибельной близости. Хотел ведь отпереться от подброшенки. Чутьё спасло. И ещё воспоминание об усмешливом взгляде начальника.
В письменной каморе князь-кесарь сказал жёстко, но уже без ехидства:
– Не получишь ты имения, Автоном. И впредь ни о чём подобном не проси. За нашу службу богатых наград не жди. Хочешь богатства, ступай в коммерцию. А состоишь при мне – помни моё правило: у кого сила, тому мошна во вред. От богатства государеву слуге одна слабость. И ещё заруби себе на носу: мне служить – честным быть. Не то поди на другую службу, у нас воровать везде привольно.