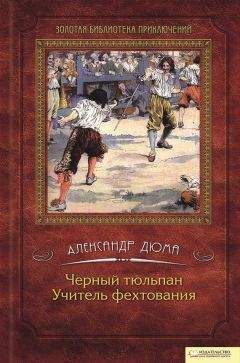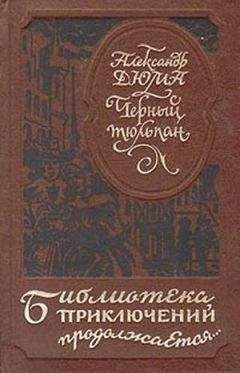Корнелиус смотрел направо, Корнелиус смотрел налево, но он дошел до площади, не увидев ни Розы, ни Грифуса.
Он был почти удовлетворен. На площади Корнелиус стал усиленно искать глазами стражников, своих палачей, и действительно увидел дюжину солдат, которые стояли вместе и разговаривали. Стояли вместе и разговаривали, но без мушкетов; стояли вместе и разговаривали, но не выстроенные в шеренгу. Они, скорее, шептались, чем разговаривали, – поведение, показавшееся Корнелиусу недостойным той торжественности, какая обычно бывает перед такими событиями.
Вдруг, хромая, пошатываясь, опираясь на костыль, появился из своего помещения Грифус. Взгляд его старых серых кошачьих глаз зажегся в последний раз ненавистью. Он стал теперь осыпать Корнелиуса потоком гнусных проклятий; ван Берле вынужден был обратиться к офицеру.
– Сударь, – сказал он, – я считаю недостойным позволять этому человеку так оскорблять меня, да еще в такой момент.
– Послушайте-ка, – ответил офицер смеясь, – да ведь вполне понятно, что этот человек зол на вас; вы, говорят, здорово избили его?
– Но, сударь, это же было при самозащите.
– Ну, – сказал офицер, философски пожимая плечами, – пусть он говорит. Не все ли вам теперь равно?
Холодный пот выступил у Корнелиуса на лбу, когда он услышал этот ответ, который воспринял как иронию, несколько грубую, особенно со стороны офицера, приближенного, как говорили, к особе принца.
Несчастный понял, что у него нет больше никакой надежды, что у него нет больше друзей, и он покорился своей участи.
– Пусть так, – прошептал он, склонив голову.
Затем он обратился к офицеру, который, казалось, любезно выжидал, пока он кончит свои размышления.
– Куда же, сударь, мне теперь идти? – спросил он.
Офицер указал ему на карету, запряженную четверкой лошадей, сильно напоминавшую ему ту карету, которая при подобных же обстоятельствах уже раз бросилась ему в глаза в Бюйтенгофе.
– Садитесь в карету, – сказал офицер.
– О, кажется, мне воздадут почести на крепостной площади.
Корнелиус произнес эти слова настолько громко, что стражник, который, казалось, был приставлен к его персоне, услышал их. По всей вероятности, он счел своим долгом дать Корнелиусу новое разъяснение, так как подошел к дверце кареты, и, пока офицер, стоя на подножке, делал какие-то распоряжения, он тихо сказал Корнелиусу:
– Бывали и такие случаи, когда осужденных привозили в родной город и, чтобы пример был более наглядным, казнили у дверей их дома. Это зависит от обстоятельств.
Корнелиус в знак благодарности кивнул головой. Затем подумал про себя: «Ну что же, слава богу, есть хоть один парень, который не упускает случая сказать вовремя слово утешения».
– Я вам очень благодарен, мой друг, прощайте.
Карета тронулась.
– Ах, негодяй, ах, мерзавец! – вопил Грифус, показывая кулаки своей жертве, ускользнувшей от него. – Он все же уезжает, не вернув мне дочери.
«Если меня повезут в Дордрехт, – подумал Корнелиус, – то, проезжая мимо моего дома, я увижу, разорены ли мои бедные грядки».
XXX. Где начинают сомневаться, к какой казни был приговорен Корнелиус ван Берле
Карета ехала целый день. Она оставила Дордрехт слева, пересекла Роттердам и достигла Дельфта. К пяти часам вечера проехали по меньшей мере двадцать лье.
Корнелиус обращался с несколькими вопросами к офицеру, служившему ему одновременно и стражей и спутником, но, несмотря на всю осторожность этих вопросов, они, к его огорчению, оставались без ответа.
Корнелиус сожалел, что с ним не было того стражника, который так охотно говорил, не заставляя себя просить. Он, по всей вероятности, и на этот раз сообщил бы ему такие же приятные подробности и дал бы такие же точные объяснения, как и в первых двух случаях.
Карета ехала и ночью. На другой день, на рассвете, Корнелиус был за Лейденом, и по левую сторону его находилось Северное море, а по правую залив Гаарлема.
Три часа спустя они въехали в Гаарлем.
Корнелиус ничего не знал о том, что произошло за это время в Гаарлеме, и мы оставим его в этом неведении, пока сами события не откроют ему случившегося.
Но мы не можем таким же образом поступить и с читателем, который имеет право быть обо всем осведомленным, даже раньше нашего героя.
Мы видели, что Роза и тюльпан, как брат с сестрой или как двое сирот, были оставлены принцем Вильгельмом Оранским у председателя ван Систенса. До самого вечера Роза не имела от штатгальтера никаких известий.
Вечером к ван Систенсу пришел офицер; он пришел пригласить Розу от имени его высочества в городскую ратушу. Там ее провели в зал совещаний, где она застала принца, который что-то писал.
Принц был один. У его ног лежала большая фрисландская борзая. Верное животное так пристально смотрело на него, словно пыталось сделать то, чего не смог еще сделать ни один человек: прочесть мысли своего господина.
Вильгельм продолжал еще некоторое время писать, потом поднял глаза и увидел Розу, стоявшую в дверях.
– Подойдите, мадемуазель, – сказал он, не переставая писать.
Роза сделала несколько шагов по направлению к столу.
– Монсеньор, – сказала она, остановившись.
– Хорошо, садитесь.
Роза подчинилась, так как принц смотрел на нее. Но, как только он опустил глаза на бумагу, она смущенно поднялась с места. Принц кончал cвoe письмо. В это время собака подошла к Розе и стала ее ласково обнюхивать.
– А, – сказал Вильгельм своей собаке, – сейчас видно, что это твоя землячка, ты узнал ее.
Затем он обратился к Розе, устремив на нее испытующий, задумчивый взгляд.
– Послушай, дочь моя, – сказал он.
Принцу было не больше двадцати трех лет, а Розе восемнадцать или двадцать; он вернее мог бы сказать: «сестра моя».
– Дочь моя, – сказал он тем странно строгим тоном, от которого цепенели все встречавшиеся с ним, – мы сейчас наедине, давай поговорим.
Роза задрожала всем телом, несмотря на то, что у принца был очень благожелательный вид.
– Монсеньор… – пролепетала она.
– У вас отец в Левештейне?
– Да, монсеньор.
– Вы его не любите?
– Я не люблю его, монсеньор, по крайней мере, так, как дочь должна бы любить своего отца.
– Нехорошо, дочь моя, не любить своего отца, но хорошо говорить правду своему принцу.
Роза опустила глаза.
– А за что вы не любите вашего отца?
– Мой отец очень злой человек.
– В чем же он проявляет свою злость?
– Мой отец дурно обращается с заключенными.
– Со всеми?
– Со всеми.