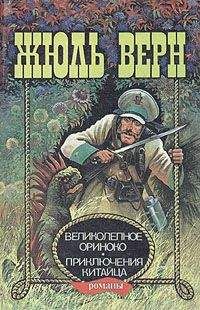— В письме Вальдштейн действительно отметил, что ты выдающийся оратор, — вставил отец Жозеф. — О чем же были эти твои, как ты называешь, разглагольствования?
— О человеческом языке. Я развивал парадоксальное утверждение, что изобретение языка, то есть способа выражать свои мысли словами, вместо того чтобы, как принято считать, быть славой и торжеством человеческого духа, на самом деле есть позор человечества и доказательство его низости.
— Тут я с тобой вполне согласен. Я тоже считаю, что человеческий язык соответствует несовершенству и неверному воображению человека, поскольку же работа нашего разума зависит от языка, то мы и не способны разумом постичь Бога. Наша любовь к Богу заходит за пределы нашего понимания: plus diligitur quam intelligentur [51], — сказал классик схоластической философии. За каждое всуе произнесенное слово, возвестил Господь, судим будешь в день Суда. Лишними речами, всем тем ненужным, что мы произносим, мы воздвигли преграду между своей душой и фактом существования Бога. Поразительно, Пьер, сын мой, как хорошо мы с тобой понимаем друг друга, хотя ты ходишь совсем не теми путями, что я.
— Но вы отказываетесь понять то главное, что для меня действительно важно, а должно быть важным и для вас!
— Я оспариваю твои выводы не потому, что они меня не интересуют или относятся к вещам, которые я не считаю важными, а потому, что тебе не удалось убедить меня и что твои фантазии мне видятся наивными. Твоя ошибка, Пьер, проистекает из предвзятости. Вальдштейн — воин, и ты заранее составил себе представление о том, как он должен выглядеть, говорить, что должно его интересовать, а что — нет. И поскольку человек, с которым ты встретился, не отвечает такому представлению, ты в своей горячности — которая, правда, мила, но безумна, — делаешь вывод, что это не Вальдштейн. Почему бы истинному Вальдштейну не интересоваться проблемами языка? Разве он не был молод и не учился в гуманитарных классах? Заметил ли ты, что ни один человек — не един? Что в любом человеческом теле живут по меньшей мере два человека, ни в чем друг с другом не схожие?
— По вас, отче, я это заметил весьма явственно, — парировал Петр. — Но у столь жестокого честолюбца, стяжателя и убийцы, как Вальдштейн, раздвоенность не может доходить до таких пределов, чтобы знать, например, монолог Гамлета. А этот знает и цитировал из него, хваля мою манеру речи. Что ему, жаждущему властвовать над миром, актерское искусство, да и искусство вообще?
— Слыхал я, — ответил на это отец Жозеф, — что в Праге он построил дворец, великолепный как по своей архитектуре, так и по произведениям живописи и ваяния, собранным в нем. А это — искусство, Пьер, l'art, как говорим мы, французы, или ars, как говорили наши латинские предки: слово превосходное, в сравнении с которым немецкое Kunst — все равно что сливовое повидло в сравнении с бурной горной речкой. Нет, сын мой Пьер, ты не убедишь меня в том, что Вальдштейн равнодушен к искусству.
— Не равнодушен, когда искусство служит его самолюбию, славе, престижу. Но вот мне пришло на ум веселенькое предположение: когда Вальдштейн лечился в Карловых Варах, труппа бродячих актеров устроила ему hommage, Huldigung [52], то есть сыграла некую сценку в его честь. Грим одного из актеров, игравших роль самого Вальдштейна, был столь удачен, сходство получилось такое точное, что герцогу могла прийти мысль нанять этого комедианта с тем, чтобы тот выдавал себя за него.
— Ты прав, сын мой, предположение действительно веселенькое, но во всем остальном оно не выдерживает критики и трещит по всем швам.
— Например?
— Например, вот что… Я готов допустить, что придворных Вальдштейна обманул грим актера, и они, даже если подметили, как изменился герцог in puncto рассудка и духа, никаких выводов из этого не сделали. Но как же его племянник, граф Максимилиан, который посещает его в Меммингене и передает — в чем нельзя сомневаться — последние новости из Рима? Неужели даже и он не заметил, что дядя совсем не тот, что прежде, что у этого человека нет — беру первое попавшееся — например, следа от оспы на левом виске?
— Граф Максимилиан несомненно посвящен во все, — возразил Петр. — Мне это сразу стало ясно по тому, как он охотно согласился с ошибочным утверждением дяди, будто тот никогда не имел дела с чешским языком. Я бы нисколько не удивился, если б оказалось, что ваш веселый Макс ездит в Мемминген не для того, чтобы сообщать дяде последние новости, но чтобы передавать письма и документы, поступающие в Мемминген к Лжевальдштейну, своему настоящему дяде, который сидит… где он сидит, отче? Помогите мне его разыскать, у меня самого нет для этого средств.
Отец Жозеф никак не отозвался на просьбу Петра.
— Раз уж ты заговорил о письмах и документах, — сказал он, — то смотри: здесь-то разве не знаменитая подпись Вальдштейна? Такую хитрую и сложную сигнатуру невозможно подделать без известной нерешительности, нетвердости линий. Это подлинная подпись.
— Вальдштейн мог оставить своему двойнику несколько пустых подписанных листов, — ответил Петр. — Но скажу вам кое-что еще, отче. Суеверность Вальдштейна всем известна — о том, что он пальцем не шевельнет, не посоветовавшись со своим астрологом, чирикают все воробьи на крышах. А знаете ли вы, что незадолго до приезда в Мемминген он отпустил со службы своего искусного астролога Сени?
— Разумеется, знаю. Подробность эта не лишена интереса, и она не ускользнула от соглядатаев: ведь и у нас, Пьер, есть свои щупальца. Но какой вывод делаешь ты из этого?
— Поскольку герцог, как всем известно, не может обойтись без астролога, полагаю весьма логичным, что он, перед тем как подсунуть на свое место двойника, отпустил Сени, чтобы увезти его в свое убежище.
— Весьма тонкая мысль, достойная Пьера де Кукана. Только она противоречит фактам. Вальдштейн не увез Сени в свое предполагаемое убежище, ибо по достоверным сведениям, полученным мною, Сени спокойно — хотя и в некоторой скудости — живет у всех на виду, зарабатывая на хлеб тем, что составляет гороскопы для доверчивых людей.
— Где он? — вскричал Петр.
— Он перебрался сюда, в Регенсбург, еще до прибытия сейма курфюрстов, — ответил патер. — И поселился у старого своего учителя Кеплера, который, как я достоверно знаю, в свое время работал на Вальдштейна. Сени живет в домике Кеплера и помогает ему, ибо тот уже дряхл и недужен и больше, чем об астрологии, заботится о том, чтобы курфюрсты определили ему компенсацию за жалованье, не выплаченное ему покойным императором Рудольфом II. Таким образом Регенсбург стал прибежищем отставных вальдштейновых астрологов. Вот трезвые факты, а все, что ты тут наговорил, не более чем измышления твоей горячей головы. Но даже если б это не было твоей выдумкой, если б Вальдштейн действительно тайно обретался где-нибудь поблизости от Регенсбурга — это еще ровно ничего бы не значило, сын мой Пьер. — Тут отец Жозеф приглушил голос до едва разборчивого шепота и наклонил свою лохматую голову к самому уху Петра. — Ибо дело можно считать сделанным: на завтрашнем заседании, в одиннадцать утра, император официально объявит об отстранении Вальдштейна и о лишении его всех званий и полномочий. Как только это случится, всем заботам конец, потому что император не сможет взять обратно свои слова, и любая попытка Вальдштейна изменить решение сейма постфактум будет равняться преступлению и государственной измене и потому заранее обречена на провал. Едва Вальдштейна снимут с должности, от него отшатнутся все его сторонники и прихлебатели. Он останется одинок, как дуб в широком поле. Стало быть, совершенно безразлично, сидит ли Вальдштейн в Меммингене или скрывается где-нибудь около Регенсбурга; в любом случае он проворонил свой час. Ближайший к Регенсбургу его полк находится в семи часах ускоренного марша.