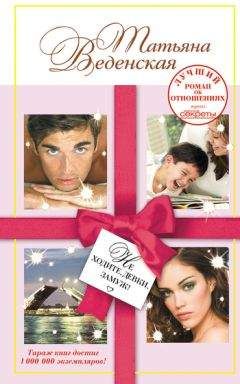«Ну, гусь! — невольно подумал Гиацинтов, слушая младшего Скорнякова. — Как еще отец тебя самого не пришиб!»
— Вы можете их описать? Как они выглядят, как одеты? — спросил Речицкий.
— А зачем их описывать? — удивился Гордей. — Если надо, я их нарисовать могу.
— Иди, рисуй! — приказал Гордей Гордеевич, а когда сын вышел, пояснил: — Все просил, чтобы на художника его учиться отправил, а я в коммерцию пихал, вот и запихнул… Теперь вот караулю его, чтобы не сбежал, да жду, когда полиция нагрянет. Пойти бы самому заявить, да ноги не идут — родная кровь все-таки…
И сник гордый, уверенный в себе Гордей Гордеевич Скорняков, словно подстреленный. А может, и в самом деле — подстреленный. Такое горе, как пуля — навылет. Сжал свои огромные кулаки, задумался.
Гиацинтов и Речицкий тоже молчали, невольно сопереживая Скорнякову, который так деятельно взялся им помогать. Неожиданно он встрепенулся, разжал кулаки и предложил:
— Может, отобедаете? Время за полдень…
Переглянувшись, Гиацинтов и Речицкий отказались — не до обеда им было, они с нетерпением ждали Гордея. Что он принесет?
Принес младший Скорняков три листа плотной бумаги, положил их на стол и отошел в сторону, по-прежнему ссутулившись. Рисунки были выполнены карандашом, и не без таланта — даже взгляды и характеры проскальзывали в изображенных лицах. Но Гиацинтова и Речицкого художественные дарования Гордея не интересовали — одновременно привстав со стульев, они так же одновременно схватили лист, на котором был нарисован Забелин. И хотя теперь его украшала бородка, без всякого сомнения, это был именно он.
— Признали, значит. — Гордей Гордеевич тоже поднялся со своего стула. — покажите мне. — Вгляделся и удивленно покачал головой: — А на рожу — приличный человек! Ну вот, господа, чем мог, тем помог. А дальше уж сами думайте, если тяжко станет — приходите. Двери у меня не закрыты.
Прямо от Скорнякова, забрав бумажные листы, Гиацинтов и Речицкий направились в номера Сигизмундова, хотя особо не надеялись, что им повезет. Так и оказалось. Господа Кулинич и Целиковский из номеров съехали, а куда и в каком направлении — неизвестно. Дом на улице Обдорской был закрыт на большой амбарный замок.
— Может, посидеть здесь, в засаде, — предложил Гиацинтов, — вдруг вернутся?
— Нет, не вернутся, — возразил Речицкий, — они сейчас постараются затеряться. Искать их — дело долгое. У меня другой план — надо завтра же ехать в Покровку, найти этого мужика из ящика, уверен, что именно он и является предсказателем, а дальше будем действовать по обстановке.
— И под каким видом мы там появимся, в Покровке? Это же деревня, каждый человек на виду. И вдруг — два неизвестных господина.
— А вот по этому поводу нам придется еще раз нанести визит Гордею Гордеевичу, он подскажет, может, и рекомендацией снабдит. Но ехать в Покровку надо не двоим, а одному. Здесь, в городе, должен кто-то остаться, чтобы заняться поисками так называемых Кулинича и Целиковского, а также их спутницы Кармен.
— Забелина буду искать я! — твердым голосом, не допускающим возражений, сказал Гиацинтов.
— Как вам угодно, Владимир Игнатьевич, — добродушно согласился Речицкий, понимая прекрасно, что искать его напарник будет не только Забелина, но и следы Вари Нагорной.
«Милый мой, любимый Владимир!
Спешу сообщить тебе очень радостную новость — на прошлой неделе я со своими ребятками отпраздновала новоселье. Матвей Петрович, о котором я тебе уже писала, сдержал слово, и теперь в моей школке появилась вторая комната. Светлая, просторная, с новым полом, который совсем не скрипит. Правда, покраску его придется отложить на лето, но это уже сущая мелочь. А еще в комнате поставили печь, их теперь у нас две; а от топки печей меня освободили, потому что Семен и Петя, два неразлучных товарища, два хозяйственных мужичка, взяли на себя такую обязанность: приходят раньше всех и топят печи. К началу занятий у нас уже тепло и уютно.
А сбоку второй комнаты мне отгородили маленький уголок, и я в ближайшие дни переберусь в него на жительство. Я уже и вещи сюда перенесла, осталось только разобрать их и расставить. Все вечера провожу теперь в школе, а к хозяевам своим часто возвращаюсь лишь на ночлег, и хозяйка моя, Анфиса Ивановна, очень за это на меня обижается и жалеет, что я их скоро покину, но я обещалась, что буду приходить в гости как можно чаще, и она, кажется, успокоилась. Никак не желает понять добрая женщина, что мне сейчас больше всего хочется побыть одной или с ребятами, которые приходят ко мне, как они говорят, вечеровать.
С девочками мы сделали хвойные гирлянды, развесили их по стенам, веточки после мороза оттаяли, и запах у нас стоит, как будто наступило Рождество, к которому мы уже начали готовиться. Проводим спевки, и мои ребятки поют очень старательно и душевно. Когда я слышу их чистые, звонкие голоса, мне всякий раз кажется, что ангелы парят где-то над нами и подпевают — так светло на душе!
А больше всего меня удивила на днях и порадовала Нюрочка. Она совсем маленькая, будто сказочная Крошечка-хаврошечка, и до того легонькая, что однажды, в метель, ее прижало ветром к забору, а она стоит и с места сдвинуться не может. Теперь мать ей сшила мешочек заплечный и кладет в него, если ветрено, камень — с камнем Нюрочку с дороги не сдувает. И вот глядела она в окно, когда мы праздновали новоселье, и вдруг тоненьким, нежным голоском говорит:
Ах, идет снежок, снежочек,
Попрыгивает, поскакивает,
На птичку поглядывает.
Птички полетывают,
Птички попискивают
На нашем дому.
Спрашиваю:
— Кто тебя этому научил?
— Да никто. Я в окно смотрю, все это вижу и пою. Ты разве не видишь?
Я записала ее фантазию, потому что очень удивилась наблюдательности ребенка, да еще крестьянского.
А до новоселья был у меня неприятный разговор с дедушкой Артамоши. Пришел дедушка после занятий в школу — мрачный, суровый и обращается ко мне с такими словами:
— Неладно ты Артамошку учишь, ох, неладно.
— Как неладно? — удивилась я.
— Да так. Спрашиваю вечор у него: что тебе задано? А он мне читает задачу — все сотни да тыщи. Большие тыщи. К чему это нам, хрестьянам? Нам этих тыщей-то и во сне не видать никогда, не то что наяву. А тут он считает да записывает. Вот намедни учил он «Живый в помощи» — это дело, без этой молитвы в лес не пойдешь, а тыщи — не надо.
Долго разговаривала с дедушкой Артамоши, убеждая, что «тыщи» тоже нужны, но, кажется, не смогла убедить…