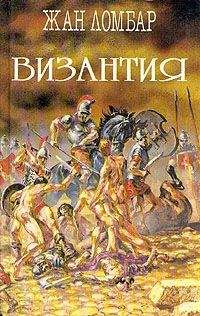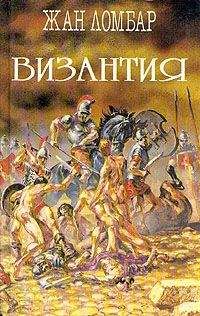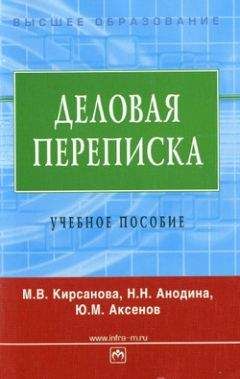Наконец, последний после Северы, он выпивает из чаши все, и в ней не остается больше крови присутствующих, которые теперь простерлись на земле в восторженном поклонении Крейстосу.
Наступает очередь взаимной исповеди. Каждая женщина избирает себе исповедника, и скоро кающиеся, почти все молодые и красивые, с мольбой, тяжело дыша от угрызений совести, признаются в воображаемых грехах, – каждая у ног мужчины, склонившегося к ее шепоту, и нет мужчины, у которого не было бы кающейся, и нет женщины, у которой не было бы исповедника.
Севера идет к Залю, сидящему на низкой скамье, и вот она у ног его, и, слушая патрицианку, перс тихо покачивает головой, и смущение проступает на его подвижном и сильном лице с коротко остриженной темной бородой.
– Я исповедуюсь в том, что слишком много думаю о тебе, что вижу в тебе Божество, что слышу только тебя и вдохновляюсь только тобою. Но я чувствую, что это наполнение не волнует моего тела и что лишь мой дух говорит с твоим. Но такое постоянное присутствие твое в моей душе излишне, Заль, и в этом я исповедуюсь и умоляю Крейстоса о прощении, через тебя, его священника!
– Сестра, – нежно отвечает Заль, поспешно отирая слезы, – грех быстро родится в твоей душе, если образ созданного будет закрывать собою образ Создателя. Крейстос повелевает мне наложить на тебя наказание, и ты услышишь голос Заля, который чает соединить свою душу с твоей, – лишь в день всепобеждающей смерти, но не в день любви.
– Как! Ты хочешь наказать меня, Заль? Ты хочешь наказать меня!
– Мы больше не увидимся, и таким образом мое лицо не будет стоять между тобою и ликом Бога. Так надо, так надо!
– О нет! Нет! Нет!
И Севера не может сдержать рыдания, берет за руки Заля, который теряет твердость.
– Нет! Нет! Нет!
Но это уже конец исповеди. Как бы повинуясь приказу, исповедники возлагают руки на прекрасные головы, склоненные к их коленам. Севера хочет последовать их примеру, но Заль останавливает ее:
– Поцелуй теперь был бы опасен; я не хочу этого…
Собираются уходить мужчины и женщины.
Гидравлический орган издает безнадежные жалобы; в пении слышится стон, и верующие еще раз простираются ниц перед изображением Крейстоса, слабо освещенного в глубине святилища скрытыми потухающими факелами. Голос прекрасного зфеба сливается с печальной гармонией; так волнующаяся река прорезает берега с нависшими деревьями, с бескрайним лесом колышущегося тростника, – с девственно чистым пейзажем, величественно окутанным туманом.
О, Крейстос! О, Крейстос! Ради Твоего торжества, дабы Ты, – великое и ясное Солнце, прошел под триумфальной аркой Твоей Божественности, ступая по склонившимся главам людей к достославным победам Будущего, каких только жертв не принесут, чего только не сделают Твои последователи, в особенности сыны Востока, которые в лице Твоем поклоняются источнику жизни, великому Океану, из коего живые существа бесконечно исходят в Космос, и высокой горе Милости и Страдания, на которую истинный Верующий восходит без боязни… Гаснут факелы; в умирающем трепете света Верующие обмениваются поцелуями, обнимая друг друга, а песнь прекрасного эфеба продолжается при звуках органа, и последние трели его замирают, как поток рыданий.
– Идем! Идем!
Так зовет грозным голосом Заль Северу. Развалины дома на Виминале кажутся зловещими, и в особенности лестница, колеблющаяся в пустоте, и отверстия в высокой стене, через которые видна красивая и громадная луна, склонившаяся к горизонту неба, омраченного темными облаками.
Они идут рядом, не разговаривая; луна исчезла и стало темно; встают гигантские тени памятников; голоса патрулей с улиц долетают до них.
– Идем! Идем!
Севера падает в ров, вскрикивая. Заль, наощупь в темноте, отыскивает ее, с силой схватывает за плечи, за груди, за стан, содрогающийся под тканью одежды, и, прижимая ее к себе, говорит:
– Идем! Идем!
Они быстро идут по темным улицам, едва освещенным мерцанием ламп в нишах. Их обступают высокие дома, термы с таинственными коридорами, колонны, поднимающиеся длинными линиями в темное небо, арки, прямоугольники стен, за которыми ходят взад и вперед солдаты, ударяя о землю копьями, отдельные дома и кварталы, известные только Залю, – он интуитивно находит дорогу к Саларийским воротам, за которыми расстилается Кампания в тумане приближающегося утра. Севера, все время тихо плакавшая, приходит в себя.
– Мой дом направо. Вот Ардеатинская дорога! Я вижу отсюда виллу, где спит Глициа, в то время как его жена присутствует на собрании восточных христиан.
– Ты не пойдешь одна, – отвечает Заль, – в Кампании бродят солдаты, которые могут задержать тебя, или же злые люди могут обидеть тебя. Я пойду с тобой, и Глициа не помешает мне.
Севера, показывая Залю на придорожный столб, виднеющийся в утреннем свете, говорит:
– Здесь ждала я тебя год тому назад, когда ты ушел в Лагерь вместе с Магло. Я думала, что тебя схватили или убили вместе с ним, и справлялась об этом у одного военачальника, который сказал мне, что отпустил тебя.
– Это был Атиллий, – сказал Заль, – быть может, это единственный из язычников, благосклонный к христианам.
– Я никогда не говорила тебе, но ты теперь узнаешь. Этот Атиллий был с двумя другими, и один из них уверил меня, что солдаты убили тебя на дороге. Я быстро пошла к тебе, открыла дверь твоей комнаты, бедной комнаты, но в которой царит благодать, и я положила там цветы. Ты видел их?
– Да, позже, – ответил перс, после некоторого молчания. – Я провел несколько дней в местах погребения христиан, и мы приводили их в порядок, потому что внутренний голос говорил мне, что мы скоро умрем. Успокойся, я говорю «скоро», но это случится не завтра. И я приготовлял с Магло наше последнее жилище. Возвратясь и увидя высохшие цветы, я подумал, что они принесены тобою, но ничего не сказал тебе. Они всегда при мне с тех пор.
Он взял ее руку и прислонил к груди, где под туникой хранил вытканный мешочек с засохшими цветами.
– Они будут здесь всегда и будут захоронены со мной в гробнице, которая меня ожидает!
– О, я последую за тобой! – восклицает Севера, – если я не твоя супруга на земле, то буду ею на небесах.
Они расстаются перед виллой, просто пожав друг другу руки и не обменявшись даже дружеским поцелуем, не из страха, что их увидят на темной пустынной улице, а в силу чувства, которое их взаимно сдерживает. И это чувство было настолько сильно, что могло разрушить всякое воспоминание о кровавых уколах на груди и о прощальных поцелуях на собрании восточных христиан. Они были и будут целомудренны, потому что они сильны во Крейстосе, и не голос тела говорил в них, а живой и вечный Дух!