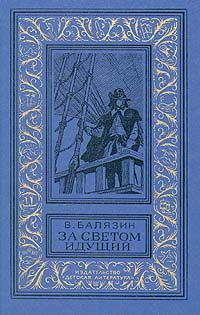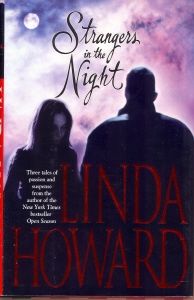Околевшие на морозе, Флегонт и Пётра попадали с запяток в снег, с трудом переломившись в поясном поклоне боярину, бесчувственными пальцами прикрыли дверцу.
Дьяк Гаврила вновь вынул куранты.
— Четвертый час стоим, боярин Григорий Гаврилович.
— Четыре дня стоять буду, а чести своей не умалю, — сопя от обиды, просвистел Пушкин.
Тышкевич призвал своих гайдуков, что-то сказал им. Холопы побежали к карете, плавно открыв дверцу, трижды поклонились поясным поклоном.
Сердито сопя, великий посол обиженным медведем стал вылезать из возка. Накренился возок набок, задевая подножкой снег, — дороден и высок был боярин: распрямившись, верхом шапки вровень был с конным паном.
Тышкевич шагнул вперед, с трудом раздвигая в улыбке посиневшие губы. Пушкин стоял не двигаясь, смотрел сурово. Тышкевич вздохнул и подал боярину руку. Пушкин в ответ руки не протянул. Чуть повернув голову к карете, спросил:
— Господа послы, а подлинно ли передо мною королевский посол, не подменный ли человек?
Пан Тышкевич, от мороза пунцовый, услышав такое поношение, стал белее снега.
— За такие слова я бы тебе рожу набил, если б не был ты царским послом, — закричал он пронзительно.
— И у нас дураков бьют, которые не умеют чтить великих послов, — беззлобно усмехаясь, ответил Пушкин. Чего ему было злиться? И проморозил панов, и на своем настоял.
Потоптавшись, решил еще покуражиться немного.
— Чего это он со мною не говорит? — спросил Пушкин, ткнув перстом во второго польского посла, пана Тыкоцинского, что стоял рядом.
— Не розумем по-российску, — ответил Тыкоцинский.
— А зачем же король прислал ко мне такого дурака?
— Не я дурак, а меня послали к дуракам. Мой гайдук знает по-русски, вот он и будет вести с вами переговоры.
Великий посол, обложив панов нечистыми словами, залез обратно в карету и, лишь когда стало темнеть, согласился перейти в другую, присланную за ним королем.
Узнав о случившемся, король решил, что послы прибыли с объявлением войны, и, еще не назначая приема, отправил в Москву гонца с заверениями в мире и дружбе. А чтобы не ожесточать сердца послов сильнее прежнего, назначил на их содержание по пятьсот золотых в день.
Коронный подскарбий только закряхтел, когда вышло, что за два месяца придется выложить из королевской казны тридцать тысяч золотых — треть ежегодного окупа, обещанного крымскому царю после битвы под Зборовом.
Через месяц примчался гонец и привез письмо царя Яну Казимиру: о войне в нем не было и намека, но за умаление титула и бесчестные враки, прописанные в книгах, царь просил казнить виноватых смертью.
Об умалении титула боярин Григорий Гаврилович говорил многие слова с великою укоризною, стыдя панов-раду и утверждая, что никогда ни в одном государстве ни одному человеку не было позволено сокращать титул государя и тем отбирать у него честь, достоинство и земли, которыми он владеет от своих прародителей.
— Более того, — говорил боярин Пушкин, — не упомянутые в титуле города и земли являются как бы выморочными, никому не принадлежащими, и любой соседний государь может завладеть ими. Злее прежних было новое оскорбление: появились в Московском государстве принесенные королевскими офенями многие мерзопакостные книги. В них было пропечатано великое бесчестье и укоризны отцу великого государя — Михаилу Федоровичу, деду его — патриарху Филарету и самому пресветлому государю Алексею Михайловичу, а также многим боярам и всяких чинов людям. А печатали те поносные книги, которые и от бога грех, и от людей стыд, и мимо всякой правды сочинены, шильники и бездельники в Кракове, и в Гданьске, и во многих иных местах.
О Смоленске, который был взят плутовством, обманом и хитростью, написано: «Королевского величества победою освобожден, московского царя выю король под ноги свои подклонил».
А возле лика покойного короля Владислава против левой руки написано: «Московию покорной учинил».
А про Михаила Федоровича сказано, что «возведен на престол людьми непостоянными». И его же называют «мучителем», а патриарх Филарет Никитич написан — «трубач».
Также и всему Московскому царству содержится укоризна: написано — «бедная Москва», а нас называют худыми людьми и побирахами и пишут многие другие хулящие слова, что и не только писать — говорить стыдно.
И наконец, о книге про войну с казаками сказано, что венгрин и москвитин из соседей и приятелей от Речи Посполитой в сторону скакнули.
— Как же, паны-рада, вы на столь злое дело дерзнули? — спрашивал Григорий Гаврилович грозно. — Как такие поносные и неистовые слова про великого государя нашего и все Московское царство не только помыслить смели, но и в книгах пропечатать? Как дерзнули великого государя бесчестить — москвитином называть и ссоры людей вмещать? Как, паны-рада, посмели вы такие злые досады и грубости износить?
Паны-рада отвечали:
— Мы никаких книг печатать не приказывали, и до них королю и нам никакого дела нет. А вы, великие послы, приехали в Польшу и накупили книг, и что в них глупые люди и пьяницы-ксендзы напечатали, то вы ставите нам в вину и в укор. А все потому, что вы ни по-польски, ни по-латыни не учитесь, а верите всяким пронырам, которые невежеством вашим пользуются.
Набрав полную грудь воздуха и напустив на себя бесконечную надменность, великий и полномочный посол боярин Григорий Гаврилович важно ответствовал:
— Учиться у вас мы не хотим и никогда не станем. По милости божией знаем наш русский язык и догматы божественного писания и государские чины и посольские обычаи твердо разумеем. А вы сами себя выхваляете и называете учеными людьми, а вот уже пятнадцать лет не можете научиться, как титул наших государей писать, и нам кажется, что вы, хоть и ученые, нас, неученых, стали глупее.
Паны-рада с криками негодования покинули зал.
В этот же день одни ворота на посольском дворе забили, возле вторых выставили жолнеров, никого к послам пускать не велели и выходить в город также запретили.
Послы сели в осаду, но слов своих ничуть не переменили. И даже потребовали, чтоб паны-рада еще раз их выслушали. Паны-рада и великий литовский канцлер князь Альбрехт Радзивилл согласились и кротко и благолепно просили послов оставить это дело, клянясь, что впредь никогда такого не будет.
— Ни за что! — ответил Григорий Пушкин. — Если не казните виновных, отдавайте за великую досаду и обиду, причиненную его царскому величеству, Смоленск со всеми тягнущими к нему городами и шестьдесят тысяч золотых червонцев!
Альбрехт Радзивилл, махнув рукою, сказал с сердцем: