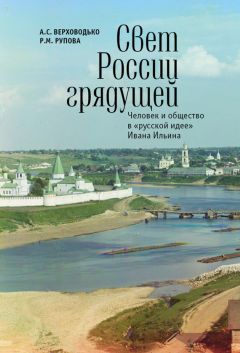глядит на восток – в сторону Орды, куда прогнал татаро-монголов. Иван III – основатель самодержавного государства – смотрит в сторону Москвы. Михаил Романов – восстановивший самодержавие в 1613 году – глядит на запад, куда прогнал польских и шведских интервентов. Ну и Петр I – основатель Российской империи – смотрит в сторону основанного им Петербурга.
В нижнем ярусе – 109 фигур ключевых для России людей: просветители, государственные деятели, военные, герои, писатели, художники. Разный, сложный русский народ, отразившийся в своих лучших представителях.
Конечно, этот памятник – некий духовный государственный идеал, сродни легенде о Китеж-граде, святом русском городе, который скрылся от татарского поругания в водах озера, унеся с собой недосягаемый образ святой Руси.
Едва ли такой дух царил в реальности, но все же сформулированный идеал и тоска по нему очень важны для указания вектора развития страны. Если даже в последние десятилетия империи, прошедшей через все поломки и западные влияния, она выглядела как православное развитое государство с единым, живущим под крестом народом, то можно представить себе яркое духовное бытование, которое царило у нас до петровских преобразований.
В каком-то смысле монумент 1000-летию России – памятник официальной русской идее-идеалу, который так и не был достигнут. Сам термин «русская идея» возник год назад. В 1861 году в объявлении о подписке на журнал «Время» его издатель Федор Достоевский написал:
«Мы предугадываем, что русская идея, может быть, будет синтезом всех тех идей, которые с таким упорством, с таким мужеством развивает Европа в отдельных своих национальностях».
Далее шли, возможно, самые прозорливые слова о русском народе из когда-либо написанных:
«Недаром же мы говорили на всех языках, понимали все цивилизации, сочувствовали интересам каждого европейского народа, понимали смысл и разумность явлений, совершенно нам чуждых. Недаром заявили мы такую силу в самоосуждении, удивлявшем всех иностранцев, способность же примирительного взгляда на чужое есть высочайший и благороднейший дар природы, который дается очень немногим национальностям. Иностранцы еще и не починали наших бесконечных сил».
Поняв про Россию что-то, чего другие не разглядели, Достоевский и для всего мира стал главным воплощением и отражением непонятной ему «русскости». До сих пор он остается одним из самых читаемых писателей во многих странах.
Пророческий дар Достоевского явно вызревал в потрясениях и невероятных метаморфозах его судьбы. В 1849 году он пережил жуткую сцену, к которой возвращался потом много раз в своих работах, – инсценировку казни над ним по делу петрашевцев.
Петрашевцами называли тех, кто входил в клуб мыслителя Михаила Буташевича-Петрашевского – сторонника длительной подготовки народа к революции, организации тайных обществ, приверженца утопического социализма и, само собой, материалистической философии.
Все петрашевцы были разными. Кто-то их называл даже коммунистами. Значительная часть задержанных и осужденных из них, например, понесли наказание только за распространение письма Белинского к Гоголю, которое мы уже вспоминали, или за недоносительство о собраниях.
После инсценировки расстрела, идя на который петрашевцы не знали, что они помилованы, многим из них, включая Достоевского, было объявлено наказание в виде каторги [65].
С января 1850 и до марта 1854 года писатель отбывал срок в военном тогда городе Омске, в каторжной тюрьме. По дороге туда, в Тобольске, жены сосланных декабристов передали петрашевцам по Евангелию с незаметно вклеенными в переплет деньгами – по 10 рублей. Эта книжечка и стала главным чтением Достоевского на все четыре года каторги. Вышел он на свободу другим человеком: все прежние мечтания и идеи растаяли. Точнее, на все вопросы он, кажется, нашел ответы не в разных «-измах», а в Евангелии. Он и Россию понял, посмотрев на нее через Священное Писание.
В бурном шестидесятническом Петербурге, в который вернулся из ссылки Достоевский, он со своими накопленными размышлениями стал успешным журналистом. В печати появился совсем новый голос. Например, о неприкосновенном до того Петре, которого полтора столетия считали государственным мерилом всех вещей и чуть ли не отцом современной России, Достоевский первым заговорил жестко:
«Реформа Петра Великого и без того нам слишком дорого стоила: она разъединила нас с народом. С самого начала народ от нее отказался… После реформы был между ним и нами, сословием образованным, один только случай соединения – двенадцатый год, и мы видели, как народ заявил себя. Мы поняли тогда, что он такое. Беда в том, что нас-то он не знает и не понимает… Петровская реформа… дошла, наконец, до последних своих пределов. Дальше нельзя идти, да и некуда: нет дороги; она вся пройдена. Все, последовавшие за Петром, узнали Европу, примкнули к европейской жизни и не сделались европейцами».
Здесь два страшных признания: что Россия вконец расколота и что элиты страны – это лишь безуспешные подражатели Европе.
Как написал позже философ Ильин: «Искать русскую идею – это сформулировать то, что было всегда присуще нам». До Петра такого вопроса вообще не стояло, ничего не надо было искать, мы были сами собой, но петровские преобразования оторвали Россию от… России. Напряженный поиск самих себя потому и выплеснулся, что мы себя утратили.
Без Евангелия этот поиск – лишь блуждание впотьмах без навигатора и карт. Евангелие – книга о Правде, о том, как быть, а не казаться. О подлинном, настоящем человеке, о том, что у него внутри, а не снаружи. Это книга о сердце.
И потому еще Иван Ильин полагал, что русская идея – это идея сердца:
«Самобытность русской души в том, что вторичные силы (воля, мысль, форма, организация) шли после, из первичных сил (сердце, созерцание, свобода, совесть)».
Ильин видел, как идея сердца и сердечного чувства заполняет и всю нашу культуру:
«Русская народная сказка вся проникнута певучим добродушием. Русская песня есть прямое излияние сердечного чувства во всех его видоизменениях… Русский танец есть импровизация, проистекающая из переполненного чувства».
Если Запад взял на себя миссию нести по миру демократию (пряча за этим «миссионерством» обыкновенные алчные мотивы), то русские, ничего не формулируя особенно, просто евангельским духом и своим чувственным порывом сердца несли добро – а там, где нужно, окорачивали зло. Немецкий философ Шубарт это видел и говорил:
«Русские имеют самую глубокую и всеобъемлющую национальную идею – идею спасения человечества».
Когда Россия прозревала эту свою задачу и эту «русскую идею», она росла и процветала. Когда теряла ее – погибала и болела.
Достоевский сказал об этом точнее всего в своей последней великой речи на открытии памятника Пушкину 8 июня 1880 года. Он описал Евгения Онегина как лучший образ оторванного от своих корней, скучающего в усадьбах вдалеке от реальности и от народа русского интеллигента. Этот странный тип был