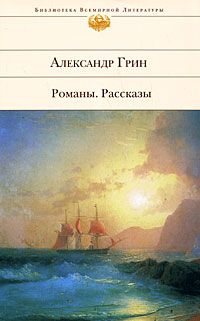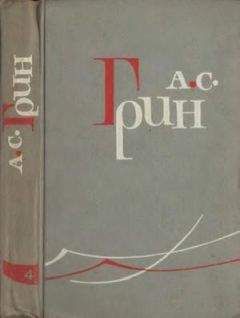Я подвержен гневу, и, если гнев взорвал мою голову, немного надо, чтобы, забыв все, я рванулся в кипящей тьме неистового порыва дробить и бить что попало. Ярость моя была ужасна. Заметив это, насмешники расступились, кто-то сказал: «Как побледнел, бедняжка, сейчас видно, что над чем-то задумался!» Мир посинел для меня, и, не зная, чем запустить в толпу, я схватил первое попавшееся — горсть золота, — швырнув ее с такой силой, что половина людей выбежала, хохоча до упаду. Уже я лез на охватившего мои руки Тома, как вдруг стихло: вошел человек лет двадцати двух, худой и прямой, очень меланхоличный и прекрасно одетый.
— Кто бросил деньги? — сухо спросил он.
Все умолкли, задние прыскали, а Том, смутясь было, но тотчас развеселясь, рассказал, какая была история.
— В самом деле, есть у него на руке эти слова, — сказал Том, — покажи руку, Санди, что там, ведь с тобой просто шутили.
Вошедший был библиотекарь владельца дома, Поп, о чем я узнал после.
— Соберите ему деньги, — сказал Поп, потом подошел ко мне и заинтересованно осмотрел мою руку. — Это вы написали сами?
— Я был бы последний дурак, — сказал я. — Надо мной издевались, над пьяным, напоили меня.
— Так… а все-таки, может быть, хорошо все знать, — Поп, улыбаясь, смотрел, как я гневно одеваюсь, как тороплюсь обуться. Только теперь, немного успокаиваясь, я заметил, что эти вещи — куртка, брюки, сапоги и белье — были хотя скромного покроя, но прекрасного качества, и, одеваясь, я чувствовал себя, как рука в теплой мыльной пене.
— Когда вы поужинаете, — сказал Поп, — пусть Том пришлет Паркера, а Паркер пусть отведет вас наверх. Вас хочет видеть Ганувер, хозяин. Вы моряк и, должно быть, храбрый человек, — прибавил он, подавая мне собранные мои деньги.
— При случае в грязь лицом не ударю, — сказал я, упрятывая свое богатство.
Поп посмотрел на меня, я — на него. Что-то мелькнуло в его глазах — искра неизвестных соображений.
— Это хорошо, да… — сказал он и, странно взглянув, ушел. Зрители уже удалились; тогда, подведя меня за рукав к столу, Том указал на поданный ужин. Кушанья были в тарелках, но вкусно ли, — я не понимал, хотя съел все. Есть не торопился. Том вышел, и, оставшись один, я пытался, вместе с едой, усвоить происходящее. Иногда волнение поднималось с такой силой, что ложка не попадала в рот. В какую же я попал историю и что мне предстоит дальше?! Или был прав бродяга Боб Перкантри, который говорил, что «если случай поддел тебя на вилку, знай, что перелетишь на другую».
Когда я размышлял об этом, во мне мелькнули чувство сопротивления и вопрос: «А что, если, поужинав, я надену шапку, чинно поблагодарю всех и, гордо, таинственно отказываясь от следующих, видимо готовых подхватить, «вилок», выйду и вернусь на «Эспаньолу», где на всю жизнь случай этот так и останется «случаем», о котором можно вспоминать целую жизнь, делая какие угодно предположения относительно «могшего быть» и «неразъясненного сущего». Как я представил это, у меня словно выхватили из рук книгу, заставившую сердце стучать, на интереснейшем месте. Я почувствовал сильную тоску, и действительно случись так, что мне велели бы отправляться домой, я, вероятно, лег бы на пол и стал колотить ногами в совершенном отчаянии.
Однако ничего подобного пока мне не предстояло, — напротив, случай, или как там ни называть это, продолжал вить свой вспыхивающий шнур, складывая его затейливой петлей под моими ногами. За стеной (а, как я сказал, помещение было без двери, — ее заменял сводчатый широкий проход) несколько человек, остановись — или сойдясь случайно, — вели разговор, непонятный, но интересный, — вернее, он был понятен, но я не знал, о ком речь. Слова были такие:
— Ну что, опять, говорят, свалился?!
— Было дело, попили. Споят его, как пить дать, или сам сопьется.
— Да уж спился.
— Ему пить нельзя, а все пьют, такая компания.
— А эта шельма, Дигэ, чего смотрит?
— А ей-то что?!
— Ну, как что! Говорят, они в большой дружбе или просто амуры, а может быть, он на ней женится.
— Я слышал, как она говорит: «Сердце у вас здоровое; вы, говорит, очень здоровый человек, не то, что я».
— Значит, пей; значит, можно пить, а всем известно, что доктор сказал: «Вам вино я воспрещаю безусловно. Что хотите, хоть кофе, но от вина вы можете помереть, имея сердце с пороком».
— Сердце с пороком, а завтра соберется двести человек, если не больше. Заказ у нас на двести. Как тут не пить?
— Будь у меня такой домина, и я пил бы на радостях.
— А что? Видел ты что-нибудь?
— Разве увидишь? По-моему, болтовня, один сплошной слух. Никто ничего не видал. Есть, правда, некоторые комнаты закрытые, но пройдешь все этажи, — нигде ничего нет.
— Да, поэтому это есть секрет.
— А зачем секрет?
— Дурак! Завтра все будет открыто; понимаешь? Торжество будет, торжественно это надо сделать, а не то что кукиш в кармане. Чтобы было согласное впечатление. Я кое-что слышал, да не тебе скажу.
— Стану ли я еще тебя спрашивать?! — Они поругались и разошлись. Только утихло, как послышался голос Тома; ему отвечал серьезный голос старика. Том сказал:
— Все здесь очень любопытны, а я, пожалуй, любопытнее всех. Что за беда?! Говорят, вы думали, что вас никто не видит. А видел — и он клянется — Кваль, Кваль клянется, что с вами шла из-за