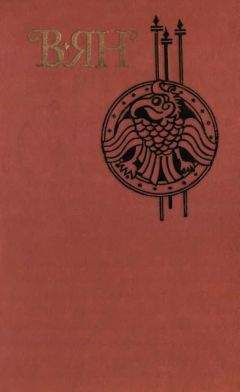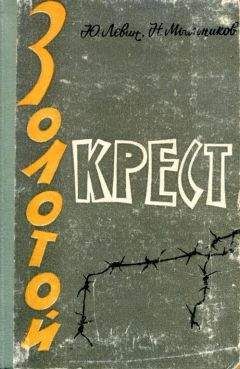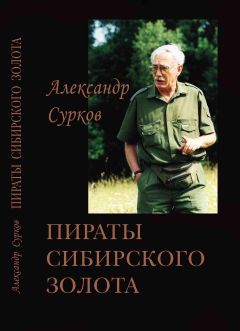Она в последовательном демократизме авторского восприятия инонационального мира, которое Василий Ян реставрировал так мастерски, что. читая «Голубые дали Азии», забываешь о дистанции в несколько десятилетий. О пережитом почти полвека назад писатель повествует живо и непосредственно, словно видит давнее по-прежнему ясными, заинтересованными. жадными до впечатлений глазами просвстителя-гуманиста, в полной мере разделяющего взгляды и убеждения тех русских людей, которые, непосредственно общаясь «с туркменами, коренным населением Закаспия, явились носителями более передовой по сравнению с тем, что здесь было, русской культуры. Они искренне полюбили Туркмению и Среднюю Азию, жили общими интересами, породнились с населявшими се народами и проделали незаметную, но великую работу по сближению с русским и другими народами России всех национальностей ее бывших «среднеазиатских владений».
Этим передовым людям, истинным представителям русской демократической интеллигенции, противостояла косная обывательская среда чиновников, на которую опиралась царская администрация в Туркестане. Ее усилиями покровители молодого Василия Янчевецкого — начальник Закаспийской области генерал Д. Й. Суботич и его жена — поплатились опалой за то, что оставались «белыми воронами» на верхних ступенях административной власти. Она же яростно отторгала и самого автора «Голубых далей Азии». При отъезде Василия Янчевецкого на русско-японский фронт адъютант генерала Уссаковского, который сменил отозванного и смещенного Д. Й. Суботича, надменно предостерег: «Если вы вздумаете потом вернуться с Дальнего Востока сюда, то мы вас обратно не примем…» Еще бы: воспитанный на гуманистических и демократических традициях русского просветительства, будущий писатель выглядел среди верноподданных службистов-охранителей неблагонадежным чужаком, чье поведение настораживало, чьих увлечений и принципов следовало опасаться.
Чем глубже погружался Василий Янчевецкий в жизнь, тем острее были его порывы к писательскому творчеству. Наблюдаемая и постигаемая действительность откладывалась в закромах памяти, где копились впрок темы и сюжеты, чтобы спустя годы, а то и десятилетия воплотиться в образном строе не только новеллистических, но и романных повествований. В этом отношении рассказы «Афганские привидения» и «Ватан» проросли из одного корня, хоть и с разрывом в четыре с лишним десятка лет. Ветвь того же, «среднеазиатского» ствола — «Письмо из скифского стана» (1928) — рассказ, органично сплавивший автобиографические впечатления и воспоминания с художническим видением многовекового прошлого, живописным воссозданием легенд и преданий «старины глубокой». Так «голубые дали Азии» открывались увлеченному взору не только во всю свою пространственную ширь, но и временную глубь. Из нее являлись лица и голоса, будоража воображение неведомой судьбой древних городов и селений, былых караванных дорог, немногие, редкие следы которых еще сохранились на некогда благодатной земле, где жизнь, «распустившись однажды пышным цветением, исчезла, словно се и не было…
Останавливались на ночлег мы в открытой степи. Ночью слышались завывания и визг шакалов. Стреножив, напоив и накормив коней, уложив верблюдов, лежа возле тлеющего костра или забравшись в раскинутую палатку, мы мгновенно засыпали, усталые, измученные трудной дорогой.
Вглядываясь в окружающую мертвую пустыню, я невольно думал:
«Наверное, и климат здесь раньше был другой. Ведь по этой равнине некогда проходили многотысячные армии Александра Македонского, Чингиз-хана, Тамерлана, других завоевателей. Чем они питались? Где поили вьючных животных и коней? Что принесли они с собой и что после себя оставили?..
Разрушения, смерть, развалины городов и селений, гибель созданной веками культуры, узкую караванную тропу тысячелетней давности— все остальное занесено песком и пылью… Ради чего же воевали эти «потрясатели вселенной»?..»
Думы путника, пересекавшего Дешти-Лут, на одном из ночлегов нашли подтверждение в словах седобородого пастуха, шагнувшего к костру из мрака ночи. «Раньше страна наша была богатой и многолюдной. — задумчиво рассказывал он о многовековом прошлом «лютой пустыни». — Но через эти земли прошли ненасытные, жадные завоеватели и все залили кровью убитых скотоводов и землепашцев. От горя и ужаса напитанная кровью земля сморщилась и высохла. От пролитых слез вдовиц и детей она стала соленой… По этим равнинам промчались отряды Искандера Великого, страшного «потрясателя мира» Чингиза, хана Бабура, Надир-шаха, хромого Тимура… Здесь пролегал великий путь переселения народов, дорога скорби и слез».
В «голой, выжженной солнцем, безводной пустыне», где лишь иногда «на горизонте проносились стада пугливых диких куланов и сайгаков, высоко в воздухе парили орлы», пришел замысел книги, где «центральной фигурой стал бы один из таких могущественных восточных деспотов». Он привиделся вдруг так въяве, что казалось, будто некуда деться от «пронизывающего взгляда его колючих глаз»…
«…Тогда у меня вспыхнула мечта— описать жизнь этого грозного завоевателя, показать его таким, каким он был в действительности: разрушителем, истребителем народов, оставлявшим после себя такую же пустыню, по которой я тогда проезжал.
Но еще немало суждено мне было странствовать, видеть и пережить после странного сна, прежде чем только тридцать лет спустя я смог осуществить эту мечту» [10].
3. Рубежи творчества. 30-е годы
Мечта стала досягаемой в 30-е годы: путь к ней сократили, ее приблизили повести античного цикла, которыми Василий Ян дебютировал как писатель, окончательно утвердившийся в исторических темах. Первая среди этих повестей — «Финикийский корабль» (1930), в приключенческом ключе воссоздавшая колоритный мир древней цивилизации Средиземноморья с ее заманчивыми городами-государствами Тиром и Сидоном.
Рассказывая о творческой предыстории повести, Василий Ян вспоминал свое плавание 1907 года «вдоль берегов Малой Азии» и посещение музея в Бейруте, среди уникальных экспонатов которого он увидел найденные при раскопках «глиняные дощечки с выцарапанными на них надписями непонятными буквами. Это были разрозненные записи древних финикийцев, смелых скитальцев по морям, омывающим Европу и Западную Африку… Желание написать об этих мореплавателях увлекательную повесть для юношества охватило меня…». Доподлинный исторический факт, воспринятый и пережитый эмоционально, дал толчок интенсивной работе воображения. Предназначая повесть юношеству, писатель и главным героем вывел юного финикийца Элисара: «тот, кто приносит счастье» — это означает его имя — отправляется на поиски пропавшего без вести отца, плотника Якира, которого несколько лет назад правитель Тира Хирам послал на работы к царю Соломону. Тому самому Соломону, с чьим именем историографическая традиция издавна связывает «золотой век» древнееврейского государства, период его наибольшего подъема и могущества. Действию повести царь Соломон нужен как компонент достоверного исторического фона, на котором разворачивается занимательный приключенческий, авантюрный сюжет, вымышленный писателем. И как прямой, конкретный повод к идейной полемике с идеализацией истории, ее упрощениями и спрямлениями, даже если они освящены, узаконены многовековой традицией — историко-литературной, мифологической или религиозной. Подобный мотив писательского спора с традицией, закрепившейся в прошлой или укореняемой в нынешней историографии, будет иметь у Василия Яна место в сюжете едва ли не каждого произведения большой эпической формы. В этом отношении повесть «Финикийский корабль» примечательна как первое, начальное звено цепи.