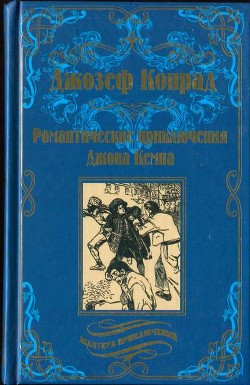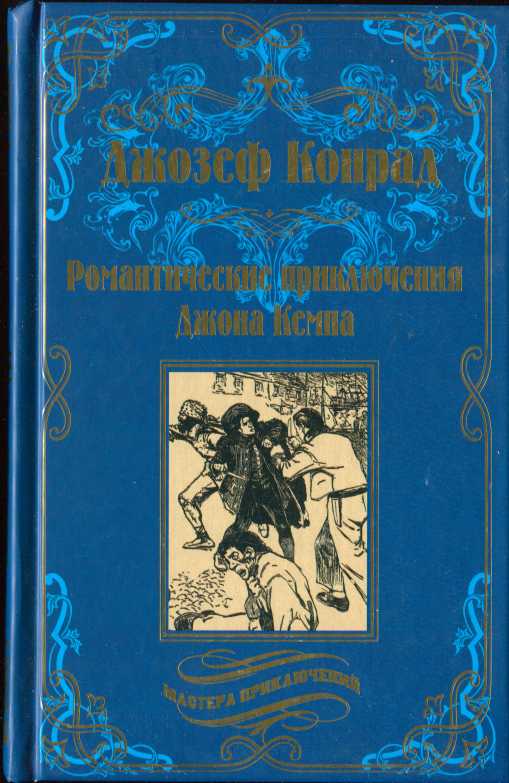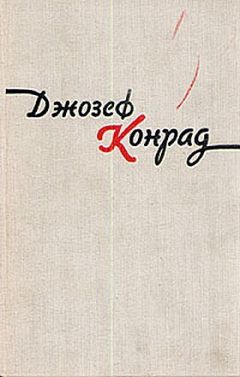Глава X
Он уступил жажде. Не бросился в пропасть. Лежа у порога, я презирал и завидовал его жалкому счастью.
Сдача не могла спасти его от смерти, но зато он смог напиться вволю. Это я понял, когда услышал его изменившийся, твердый и жадный голос: "Еще, еще". Я бы, верно, не выдержал и бросился бы сам за своею долей воды, если б не слышал жестокого и ласкового голоса Мануэля:
— Ну, как теперь, не бросишься в бездну, Кастро. "Почетному гостю" дали есть и предложили курить.
И он ел и курил. Те издевались. Но Кастро был нем — от презренья и, может быть, отчаяния.
Потом его потащили к обрыву. Я понял, что лугареньос образовали вокруг него полукруг и обнажили кинжалы.
Мануэль, визжа высоким фальцетом, приказал разрезать путы на его ногах.
— Канальи, собаки, воры… я плюю на вас
— Прыгай, — крикнули они хором под лязг гитары. Мануэль импровизировал:
— Он мечется над бездной. Кровь холодная, отливает от ног, — но тщетно. Час настал для прыжка…
И хор повторил:
— Прыгай!
Затем все замерло — даже, кажется, мое дыхание. Кастро завопил, как безумный:
— Сеньорита, ваше золото. Сеньорита. Спасите!
Молчание.
— Слышите? Мертвый взывает к мертвым, — усмехнулся Мануэль.
Испуганный и почтительный гул голосов донесся из толпы испанцев:
— Сеньорита жива. Она в пещере. Или где?
— Одно мановение ее руки спасло бы тебя, Кастро, — тихо сказал Мануэль.
Я вскочил. Кастро бессвязно бормотал:
— Она наполнит золотом ваши ладони. Слышите, люди, я, Кастро, говорю вам. Каждому обе ладони.
Неужели он выдаст нас? Последняя надежда рухнула. Мне оставалось одно — самому броситься в пропасть.
— Она рождена повелевать луной и звездами, — пел Мануэль. — Она может даже остановить месть.
Затем, опустив гитару, он сказал:
— Говори, старик, где она.
Кастро морально был приперт к стене. Самообман стал для него невозможен. Только прямым предательством он мог бы купить жизнь. Если б не пересохло у меня горло, я крикнул бы и выдал себя, чтобы спасти старика от последнего позора. Но почему-то он колебался.
— Где они? — опять закричал Мануэль.
И я услышал ответ:
— На дне морском.
Значит, в конце концов, у него достало мужества. Или вся сцена была просто разыграна, чтобы заставить их поверить в нашу гибель. Кто знает? Дальше я услышал только громкий вопль, за которым воцарилось внезапное, глубокое молчание. Оно длилось очень долго.
Бросился. По узкой крутой тропинке на противоположную сторону ложбины колыхалось пламя факелов. Затем снизу из глубины донесся голос:
— Мануэль, Мануэль, нашли — es muerte [47].
И сверху крик Мануэля гулко раскатился среди скал.
— Bueno! [48] Поверните падаль лицом вверх, чтобы клевали птицы.
Они долго еще перекликались. Снизу кричали, что отправляются к морскому берегу. Мануэль приказал наутро принести ему со шхуны канат. Шхуна, очевидно, уже снялась с мели. Назавтра лугареньос рассчитывали ставить паруса.
Я ожил. Ночь я провел между ложем Серафины и порогом пещеры, напрягал всю волю, чтоб не потерять рассудок в этой надежде, этой тьме, этой пытке. Ждал зари и проклинал звезды на узкой ленте неба, не желавшие погаснуть.
Голос Мануэля раздражал меня и укреплял мои силы. Бандиты совещались. Зайти ли в пещеру, узнать наверное — есть там кто-нибудь, или нет. С пещерой связаны были различные суеверья. Говорили о людях, заходивших в ее глубину и не вернувшихся больше.
Из лугареньос никто не отважился заходить вглубь дальше того места, куда достигал свет от костра. Но инглес мог зайти в глубину. Англичане не боятся демонов, потому что они сами черти. Мануэль презрительно возражал, что человеку в подобной ловушке надежда никогда не позволила бы отойти от порога. Он попробовал рассмеяться. Мне казалось, если б я мог одним прыжком очутиться среди них, суеверные трусы рассыпались бы, как сор по ветру, от одного моего взгляда. Ожидание было невыносимо. Неужели никогда не настанет день? Наконец дремота связала их голоса.
Серый луч протянулся к ложу Серафины. Он означал день — последний день страдания и, может быть, жизни. Я молча прижал губы к ее щеке. Глаза ее были открыты. Она мужественно улыбнулась, но улыбка не шла дальше губ. Ни одна черта лица не шевелилась. Я, не колеблясь, вскрыл бы вены ради нее, не будь это запретной жертвой.
День ширился. Каждую минуту он мог затмиться фигурами бандитов, я стал у порога, ожидая нападения или ухода врагов.
Среди них шли возбужденные разговоры. Опасались, что ковбои открыли их присутствие. Часто повторялось имя Карнейро, бандита, который накануне неосторожным выстрелом уложил жирную корову на одном из пастбищ дальше, в саваннах. Его ругали на чем свет стоит. Ночью со шхуны слышали конское ржанье. На прибрежном песке видели отпечатки копыт.
Всадников они очень боялись, боялись мести за вакеро, убитого Мануэлем.
— Так что же? Будем узнавать, там ли инглес — живой или мертвый? — спросил кто-то.
В первый раз за это утро я услышал голос Мануэля.
— Если инглес там внизу, и если он жив, то сейчас он подслушивает нас. Но, конечно, там нет никого.
— Поди, посмотри, Мануэль, — кричали бандиты.
— Давайте веревку, — ответил атаман.
Перед устьем пещеры повисла — фляжка Вильямса, привязанная своим зеленым шелковым шнуром к концу толстого корабельного каната.
Она была наполнена свежей водой. Мокрая серебряная пробка, сверкавшая на солнце, слепила мне глаза.
Судорога сжала мне горло. Я заставил себя отвернуться и бросился к Серафине.
— Дай мне руку. Мне нужна твоя помощь, — прошептал я.
Ее легкая рука легла на мой лоб.
— Мы спасены, — бессмысленно повторял я, — терпение, терпение.
И я пополз прочь от нее. Я должен здесь рассказывать правду. Пополз к фляжке с водой. Дьявольская сила тянула меня.
Я страдал от ясности своих чувств. С негодованием я видел, что позорно пойман, как рыба на удочку. Я осторожно приподнял голову, чтобы взглянуть на приманку.
За порог упала тень. Я остановился. Неожиданность этой тени меня спасла. Мануэль спустился по карнизу.
Он стоял один у входа в пещеру. Пусть видят храбрецы Рио-Медио, каков их атаман. Если инглес в пещере, то он мертв. Но не единая живая душа наверху не осмелилась отправиться взглянуть на мертвое тело. Конечно. Эти кабальеро должны убивать скот. Они, как львы, должны питаться мясом. Но у них души куриц, рожденных в навозе.
Вот он, Мануэль, не боится ни света, ни теней.
Я бесшумно отошел прочь вглубь пещеры.
Что заставило его спуститься? Тщеславие. Страх перед О’Брайеном. Судья не поверил бы в проделку с бутылкой. Верил ли он сам? Казалось, он врос в порог.
Осмелится ли он пойти исследовать дальше? Однажды он убил здесь человека, но тогда он не был один.
— Никого, — тихо сказал он, сделал несколько шагов и сел на камень около золы. По его движеньям я видел, что он делит беспокойное внимание между глубиной пещеры и ее порогом. Я разобрал слова: "Я тут в большей безопасности, чем они там наверху".
— Ковбои, — пронеслось в моем мозгу.
Он тут сидел между призраком своего убийства — подлого, даже по представлениям его банды — и реальностью мести.
И вдруг какой-то звук, хоть я уверен, что ни сам я, ни Серафина не шелохнулись — какой-то звук его испугал. Он вскочил, прижался плечом к каменной стене, подняв нож, и смотрел в темноту. Зубы и белки глаз сверкали издали прямо передо мной. Одно мгновение я был уверен, что он меня заметил.
Все это произошло очень быстро. Я не успел сделать ни одного движенья, чтобы приготовиться к его нападению, когда увидел, что он делает крестное знамение в воздухе острием своего ножа.