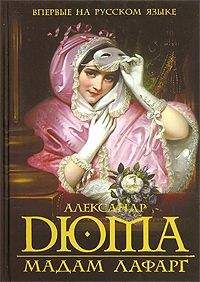Комендант, очевидно, проверил, все ли старший сделал как требовалось.
– Отлично. Вот только прижмите потуже левый подхват, а то там осталась щелка.
– Пусть остается, снизу ее все равно не видно, так что ничего дурного не будет.
– Дурно будет, если меня накажут. Пара ударов молотком, и все в порядке.
Вновь послышались удары молотка, затем голос коменданта:
– А дом напротив не будет виден? Нет? Всем рабочим достанется, если тут будет видно что-то кроме деревяшки. А сад? Сада тоже не должно быть видно. Да нет, хорошо получилось.
– Неужели садовник и его помощники тоже с ней здороваются? – спросил комендант недовольным тоном.
– Мало того, что садовник здоровался! В сад приходили друзья мадам, когда она по вечерам у окна стояла. Они с ней здоровались, делали ей знаки, что-то шептали, словом, терпеть такого было нельзя… А семинария? Поле? Нет, их тоже не видно. Деревья «Назарета» едва виднеются. Но из такого далека кто станет знаки подавать? Ну что, закончили?
– Закончили. Но делал я это без большой охоты. У нее же потемки будут, а в дождливые дни – тьма тьмущая, хотя и на юге. Бедная женщина! У покойников в гробу света больше.
Пока они за окном работали, я удерживала слезы – мне хотелось слышать, что они говорят, хотелось узнать побольше. Когда рабочие ушли, я попросила Бассон не следовать за мной и вернулась одна к себе в камеру, но она уже не была на себя похожа, как не похож ясный день на пасмурный.
Еще более печальное зрелище ожидало меня возле окна. Мою решетку закрыли выпуклым деревянным щитом, обитым по краям железной полосой, планки на нем сложились в злобную гримасу, с какой художники изображают кошмары. Этот щит, наполовину жалюзи, наполовину ставень, не преграждал дорогу взгляду, он его отталкивал. И сразу становилось ясно, что сделали его не из добрых побуждений, желая оградить меня от ранящего любопытства прохожих, а из жестокого желания лишить последнего утешения, отнять улыбку солнца и сочувственные приветствия друзей»[176].
«Меня сторожили, за мной следили. Меня отторгли от мира, меня отторгли от жизни. Сквозь решетку на моем окне виднелся лоскутик голубого неба, солнечный луч, краешек чудесного пейзажа. Одним росчерком пера небо, солнце и горизонт были взяты под стражу. Воздух и дневной свет отныне мне отмерены по капле. И мне уже не дождаться вечером ветра с моря, не надеяться освежить лицо. Не дождаться и едва заметного кивка от сочувствующего незнакомца, столь освежающего сердце. Поверх железной решетки теперь сделали деревянную, она прячет от прохожих тень живой покойницы, а от несчастной узницы призрак живой жизни.
Разве природа не создание Творца и разве власть, отторгающая человека от человека, имеет право отторгать его Господа? В тюрьме тело передает душе все, что имеет. Если люди отягощают тело оковами, Провидение наделяет душу крыльями… Так почему же не позволить узнику любоваться Божьим творением, чтобы с большей верой молить Его о сострадании!»[177].
«Ангел-хранитель моего детства! По вечерам я молилась тебе и звала тебя к своей колыбели, прилети и теперь, добрый ангел, молю тебя на коленях! Навести без меня места, где, пошатываясь на слабых ножках, я делала свои первые шаги, куда теперь мне не дойти никогда…
Твои быстрые крылья, наверное, уже донесли тебя туда… добрый ангел, ответь мне!
Смотрятся ли по-прежнему липы в пруд? Плавают ли по-прежнему золотые кувшинки в закатных водах? По-прежнему ли твой брат, добрый ангел, хранит от всех бед играющих на берегу детей?
Видишь ли ты узловатые ветви боярышника? Он первым начинает цвести под ласковым майским солнцем. Милый боярышник… Отец подсаживал нас с сестрой, мы дотягивалась до цветущих кистей и собирали букет в день рождения нашей любимой бабушки.
Пощадило ли время церковь с готическими арками? Алтарь в ней каменный, распятие черного дерева. Придет ли кто-нибудь после меня и украсит ли крест васильками и розами в трижды благословенный день, когда моя очистившаяся душа соединится с Господом?
Видишь ли ты розовые кусты, что одаривали цветами мою матушку? Видишь ли тополя, что росли вместе со мной? Стоят ли по-прежнему среди луговой травы кудрявые яблони, укрывая своей сенью деревенскую дорогу, по которой под их зелеными куполами я несла белую хоругвь во время крестного хода в честь Девы Марии?..
Среди цветов под завесой ив ты увидишь могилу, где спят мои мертвые… Отнеси им мою молитву, они тебя услышат!..
Добрый ангел, вернись ко мне и опять полети туда! Наполни свои глаза моими слезами и ороси землю, где я оставила свое сердце, но где мне уже – увы! – не доведется побывать!!!»[178].
«Давным-давно глаза мои не видят Божьего мира, руки не могут к нему прикоснуться… На двери – засовы, на окне – ставни. Справа, слева, внизу только я да я. Хорошо, что вверху надо мной есть Господь…
Уличная суета была для меня ежедневным развлечением. В моем состоянии болезненного равнодушия вид внешнего мира, его пестрые райские картины успокаивали мои страдания, как в детстве успокаивали нянюшкины сказки, под которые я засыпала. Я улыбалась далеким видениям, как улыбаются снам. Я изымала так несколько часов из нескончаемой пытки.
Я поступала плохо, время дано нам в долг, и мы должны будем за него отчитаться. Оно тоже тот талант из Евангелия, который мы не должны расточить[179]… Оно тоже роса с того поля, жатву с которого мы принесем, когда как завершится время года, именуемое жизнь.
Если нужно, чтобы я жила, то нужно, чтобы мои усилия приносили плоды, чтобы политый моим потом талант принес плоды, чтобы он расцвел, политый моими слезами. Перст Господа подтолкнул мое сердце, и оно забилось. Я не ускорю и не замедлю его биения. Божий маятник меряет отпущенное мне время. Я не потеряю больше ни одного отпущенного мне дня»[180].
Так завершается горькая книга, носящая название «Часы заточения». Страница за страницей пленница превозмогала свои страдания, и душа ее шаг за шагом восходила к Господу.
Остается сказать немногое. Мы встретились с Марией Каппель, постояв у ее колыбели, и расстанемся, опустив в могилу. Нам остался один эпилог.
Марии Каппель больше нет. Кому вести рассказ? Есть еще голоса, что шепотом переговаривались вокруг смертного ложа, на котором она лежала в агонии, – голоса, что вздыхали над ее могилой.
Первым будет г-н Коллар, отец Эжена, старик семидесяти пяти лет. Послушаем его:
«В первые дни октября 1848 года[181] здоровье бедной узницы заметно ухудшилось. Жар у нее не прекращался. Ее врач, добрый и преданный, поделился своими опасениями с префектом, тот распорядился, чтобы четыре профессора медицинского факультета освидетельствовали больную и написали свое заключение. Мнение консилиума было следующим: только освобождение может дать больной шанс на выздоровление.