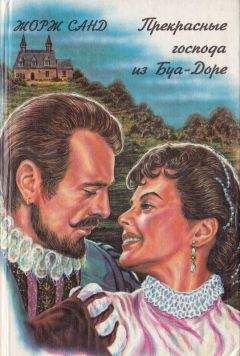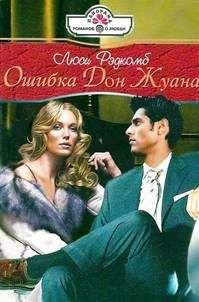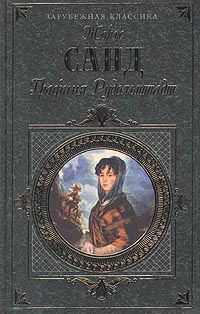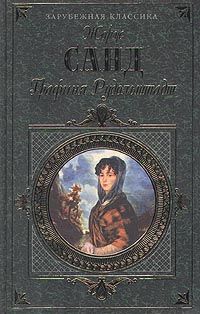Пока маркиз объяснял ему то, что ожидал получить от его преданности и скромности, Адамас вносил тело в уединенный домик, а четверть часа спустя Буа-Доре и его люди вновь направлялись по дороге в Ла Рошаль.
Они встретили там Аристандра и его товарищей, расстроенных тем, что так и не смогли обнаружить, куда подевался Санчо.
— Итак, господин, — промолвил Адамас, — быть может, Господь так благоволит к нему! Этот преступник ни в коем случае не появится в стране, где, как известно, он был уличен и подвергся бы новым неприятностям из-за вас.
— Признаюсь, трезво рассудив, я не имею желания вершить расправу, — отвечал маркиз, — и хотел бы, чтоб он держался подальше от меня. Выдав его правосудию, я был бы вынужден рассказать, каким образом я обошелся с его хозяином, а потому мы должны в настоящий момент молчать об этом, таким образом, все и к лучшему. Я полагаю, что смерть моего дорогого Флоримона отомщена в должной мере, Мерседес даже не видела, чей удар, хозяина или слуги, оборвал его бедную жизнь; но в подобных случаях, Адамас, главный виновник и, быть может, единственный виновник тот, кто приказывает. В любом случае лакей верил, что его долг — подчиняться злонамеренному приказу, и он не мог даже действовать по своему усмотрению или воспользоваться вещами моего брата, так как он оставался лакеем, как и прежде.
Адамас не разделял потребности в отпущении грехов тому, кто своими насильственными действиями причинил страдания маркизу. Он ненавидел Санчо гораздо больше, чем д'Альвимара.
Он не считал себя очень способным, чтобы дать совет и совершить преступление; но именно он больше всего опасался увидеть графа преследуемым, и это поддерживало его мнение о нужности преследования, от которого он чуть было не отказался.
Когда они приблизились к воротам поместья Бриантов, то услышали неровный топот копыт лошади, скакавшей без узды.
Это была лошадь Санчо, которая вернулась к своему последнему ночлегу, рядом была лошадь д'Альвимара, приведенная назад в поводу. Они жалобно заржали, почти рыдающе.
— Эти бедные животные чувствуют, как в том нас уверяют люди; несчастные, вернувшиеся к своим хозяевам, — сказал маркиз Адамасу, — это разумные существа и они живут в неведении. Я вовсе не собираюсь убивать их здесь; ибо совсем не желаю иметь в своем доме ничего, что бы принадлежало этому д'Альвимару и чтоб получить хоть малейшую выгоду от вещей, оставшихся после покойного, которая осквернила бы мои руки, пусть отведут этих лошадей на десять или двенадцать лье отсюда и пусть их там выпустят на волю. И пускай этим воспользуется тот, кто захочет.
— И таким образом, — возразил Адамас, — никто не узнает, откуда они пришли. Вы могли бы отставить это на попечение Аристандра, господин. Он даже не даст соблазнить себя желанием их продать ради собственной выгоды, и сели вы мне в этом поверите, он отправится в путь в тот же час, не дав им переступить порога поместья. Это совсем ни к чему, чтоб кто-то увидел этих лошадей на вашей конюшне.
— Делай, что хочешь, Адамас, — ответил маркиз. — Это заставило меня подумать, что этот злосчастный плут должен был иметь деньги при себе, и что я должен бы подумать о том, чтобы взять их на пожертвование нищим.
— Оставьте это на попечение послушника, господин, — сказал благоразумный Адамас, — вдобавок он поищет их в карманах покойника, к тому же вы будете уверены в его молчании.
Было одиннадцать часов вечера, когда маркиз вернулся в свою гостиную.
Жовлен бросился ему в объятия. Его выразительные черты лица говорили достаточно о пережитых ужасах беспокойства.
— Мой добрый друг, — сказал ему Буа-Доре, — я обманул вас; но радуйтесь, этого человека больше нет; и я вернулся к себе домой с легким сердцем. Мое дитя, несомненно, спит в этот час: не станем будить его. Я расскажу вам…
— Ребенок не спит, — ответил немой, воспользовавшись карандашом. — Он догадался о моих страхах: он плакал, он просил и метался на своей постели.
— Пойдем успокоим это бедное сердечко! — воскликнул Буа-Доре, — но сначала, друг мой, взгляните, нет ли на моей одежде хоть малейшей капли этой злодейской крови. Я не хочу, чтоб это дитя узнало страх или ненависть в том возрасте, когда еще нет спокойствия силы.
Люсилио снял с маркиза плащ, шлем и забрал оружие, а когда они поднялись наверх, то обнаружили босого Марио на пороге комнаты.
— Ах! — воскликнул ребенок, горячо прижимаясь к огромным ногам своего дядюшки и болтая с ним с той бесцеремонностью, в которой он еще не сознавал ничего противного обычаям знати, — вот ты и вернулся? С тобой все в порядке, мой дорогой друг? Скажи, тебе не сделали ничего плохого? Я подумал, что этот злодей хотел убить тебя, и я так хотел, чтоб меня отпустили побежать за тобой! Я был так огорчен, вот! В другой раз, когда ты отправишься сражаться, мне нужно следовать за тобой, потому что я — твой племянник.
— Мой племянник! мой племянник! Этого недостаточно, — говорил маркиз, относя его в постель. — Я хочу быть твоим отцом. Тебе бы хотелось быть моим сыном? — И заодно он наклонился, чтобы принять ласки маленького Флориаля, который хорошо понимал и разделял опасения Жовлена и Марио. — Вот он, маленький друг, который больше не принадлежит мне. Знайте же, Марио, вы так хотели этого! Я дарю его вам, чтобы утешить вас в горе сегодня вечером.
— Да, — проговорил Марио, положив Флориаля на свою подушку, — я так люблю его, но ставлю условие, пусть он принадлежит нам обоим и пусть он любит нас одинаково, как одного, так и другого… Но скажи мне еще, отец: этот злой человек поплатился за все, что совершил?..
— Да, сын мой, за все, что совершил.
— А король его покарает за то, что он убил твоего брата?
— Да, сын мой, он будет наказан.
— А что же с ним сделают? — спросил Марио задумчиво.
— Я расскажу вам позже, мой сын. Подумайте только, какое счастье, что мы уже вместе.
— И никто не разлучит меня с тобой, никогда?
— Никогда!
Затем, обращаясь к немому:
— Почтенный Жовлен, разве не грустно даже помыслить изменить нежную речь этого ребенка, которая так мелодично звучит в моих ушах? Давайте позволим ему говорить мне «ты» наедине, ибо сама эта фамильярность в его устах идет от любви.
— А разве нужно было бы, что я тебе говорил «вы»? — возразил изумленный Марио.
— Да, дитя мое, по крайней мере, всегда на людях. Таков обычай.
— Ах! да, так я говорил господину аббату Анжоррану! Но ведь я люблю тебя гораздо больше, чем его…
— Ты меня уже любишь, Марио? Я так доволен этим! Но как это объяснить? Ты ведь совсем меня не знаешь.