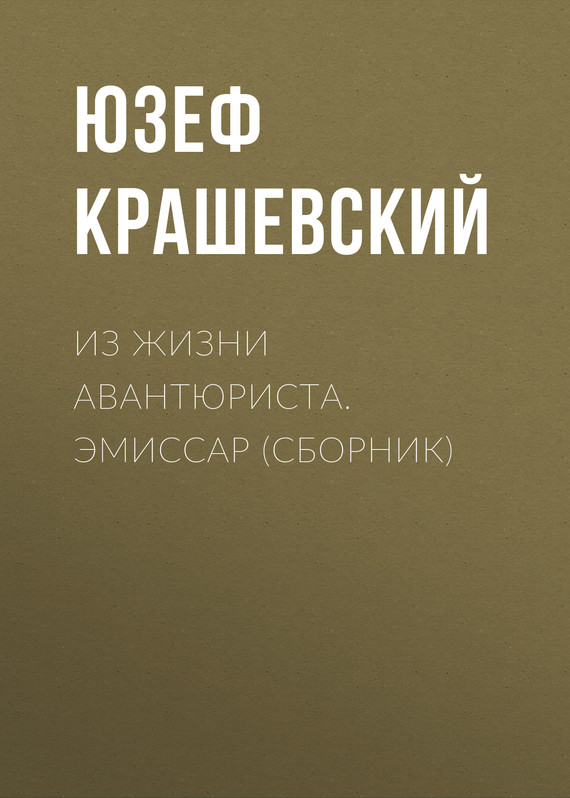последние дни… лежу, молюсь… ангела-хранителя имею в ней, – добавил он, указывая на женщину. – Я жил только надеждой на весть о тебе… чувствовал, что ты жив, но не знал, что делаешь… чувствовал, что перед смертью мои глаза увидят тебя, хоть разум этому сопротивлялся. Но вижу тебя и страх меня пронимает.
– Отец, – сказал Павел со спокойной резигнацией, – не бойся обо мне, я жизнь давно отдал народному делу, она ему принадлежит. От моей жертвы не отступлю. Я уговорил только себя, чтобы тебя увидеть.
– Мой добрый Павел, достойный, честный ребёнок, говори, – сказал старик, – говори, как тебе живётся?
– Можно ли спрашивать об этом изгнанника, эмигранта, бродягу? Живу, но живу всей мыслью о родине и работой для неё. Сносим нужду, идём, толкаемые… сносим. Принимали нас триумфами, провожали криками, всё это уступило грустной реальности, пришло равнодушие… Мы среди чужих, братьев не имеем! Я выучился на часовщика, живу с этого кое-как. Но сегодня нечего о том думать, сейчас в стране что-то готовится… нужны были смелые, дабы могли войти и принести приказы и новости, – я пошёл.
– Идя на погибель, – сказал старик.
– Знаю, – отпарировал Павел, – но погибнуть ради святого дела – может ли быть что-нибудь более благородное?
– Да! – сказал старик, поднимая руки. – Мы всем родом по Божьему Проведению были предназначены на страдание и погибель. Твой прадед имел значительные богатства, дед воспитывал тебя в милости, отец жил в тяжёлой работе и умирает в нужде… а ты…
– Но из нас ни один не запятнал себя, – прибавил Павел, – счастье – не задача человека, это случайность в жизни.
– Говори о себе, – сказал старик, – говори.
– Отец мой, я всё тебе уже поведал… остальное говорит моё присутствие на этой земле…
– Куда же пойдёшь? Что думаешь?
– Не знаю… у меня важные бумаги, имею поручения… кажется, что часть заговора уже открыли, некоторых преследуют. Моя миссия тем больше. Как с ней справлюсь, это один Бог знает. Верю в его Проведение… А если мне предназначено умереть… не побоюсь… Я побежал сюда, потому что обязательно тебя хотел увидеть, всё-таки, чтобы взять твоё благословение на жизнь, работу или смерть… но и тут… долго остаться не могу. Что-то не удалось…
– Что же?
– Ничего… но имею сомнение, что мне что-то здесь может угрожать. Едва я прибыл в Луцк, велели мне в полиции паспорт регистрировать, я не мог этому противостоять, чтобы не потянуть на себя подозрений. Приказали мне представиться лично… несчастье хотело, чтобы там встретил…
– Кого?
– Шувалу…
– Шувалу! Он узнал тебя?
– Не знаю. Поглядел, задрожал, задержался, поколебался и ушёл. Но всё-таки я не уверен уже ни в этой усадьбе, ни в околице. Если немного заподозрил, будет меня здесь искать.
– Если бы узнал, – сказал старик, – не отпустил бы тебя.
– Так и мне казалось… Но этот человек ненавидит нас, ежели мысль застрянет в нём, пошлёт сюда шпионов, будет искать и не пропустит меня.
– Я ему обязан, что лежу в этой берлоге, – ответил старик, – что уничтожен. Не имею покоя от него. Безжалостный… Ежели так, не оставайся здесь… уходи… но куда направишься?
Павел подумал.
– Не знаю, надобно мне в глубь страны врезаться, в сторону пинского Полесья, у меня есть указанные дома, дороги. Лишь бы мог уйти из этой околицы к Маюничам… там меня укроют… О, отец мой, не будем говорить обо мне, поговорим о тебе…
В эти минуты бедная Роза принесла с кухни тёплое молока в горшке и краюшку хлеба. У неё собирались слёзы, что так бедно должна была принять дорогого гостя, но в доме ничего не было, а посылать в эту пору к корчмару значило обратить внимание.
– Мой дорогой Павел, поздняя ночь, – сказала она, обеспокоенная, – а у нас ничего не было, за исключением молока и хлеба… может, что-нибудь тёплое выпьешь?
Павел принял еду, на его глазах заискрились слёзы… он понял отцовскую бедность, сердце его сжалось.
Хотел сразу панне Розе отдать то, что принёс с собой для отца из собственной работы, но на мгновение отойти от него было невозможно. Старец не мог насытиться сыном… смотрел, слушал, велел ему подвинуться, держал за руку… и плакал.
Было уже хорошо за полночь, а разговор ещё не прервался, спозаранку Павел должен был в сумраке идти бродить дальше.
* * *
Когда это происходило в бедной усадебке Зенчевского, в парадной корчме у Фроима Дубенчика около полуночи уже погасили свет. Лил дождь, выл ветер, путников в такую ночь ожидать невозможно, поэтому все ложились спать заранее и закрывались, но старый Фроим, которому торговля углём спать не давала, не сомкнул ещё глаз… среди тишины и ночи считал.
Вдруг его внимательное ухо что-то поразило, как бы отдалённый звук почтового колокольчика, извещающего на частных дорогах об уряднике. Фроим поднялся на подушках и слушал. Несколько раз звякнул колокольчик, но вдруг перестал… Старый еврей был уверен, что зазвенело в его ушах, когда начали стучать в ворота. Колокольчика не было, но кони фыркали.
Он вскочил, крича фактору, чтобы пошёл посмотреть, кто стучит в ворота, а сам быстро накинул халат, дабы быть в готовности. Разожгли притушённый огонь и свечи в лампе; через мгновение высокий, плечистый мужчина вошёл в комнату… огляделся и кивнул Фроиму. Еврей не узнал его, но увидел пальцы на устах и на воротнике офицерский знак. Он низко поклонился.
– Пойдём в альков, – сказал прибывший, – закрыть ворота конюшни, – пусть коней не распрягают, бросить им сена.
Только теперь Фроим больше по голосу, чем по закрытому лицу, распознал справника Шувалу… по нему прошла дрожь. Он знал, что ночное путешествие такого важного урядника не бывает без причины.
Вошли в альков. Справник не снял ни плаща, ни шапки.
– Слушай, Фроим, мы знакомы не с сегодняшнего дня, я тебе доверяю, – сказал он медленно, – ты не раз служил правительству и правительство тебе выплачивало… правда?
– Ну, что это говорить, – отпарировал старый еврей, – каждый должен служить своему правительству, у нас это в Библии написано.
– Можешь мне и правительству оказать большую услугу, но молчать, как могила.
– Разве еврей когда-нибудь что выдал? – отпарировал Фроим.
– Есть страшный заговор, состряпанный против правительства и царя. Снова поляки бросаются на свою погибель. Их эмиграция рассылает по стране бунтовать… полно этих негодяев наплыло. Жив старый Зенчевский? Ещё его дьяволы не взяли?
Еврей, услышав это имя, побледнел и изменился в лице… явно испугался; но отвечал свободно:
– Ну, живёт! Какое там живёт! Он медленно умирает…
– Если бы сдох старый негодяй, не было бы большой неприятности. Но есть доказательства, что этот его любимый сыночек, пан Павел, тут крутится. Я его сам здесь своими глазами видел, но лихо меня ослепило… не узнал его, не схватил, до ста тысяч дьяволов. Он тут или есть… или будет в любую минуту.
Еврей стоял как поражённый молнией.
– Ясно пани полковник, –