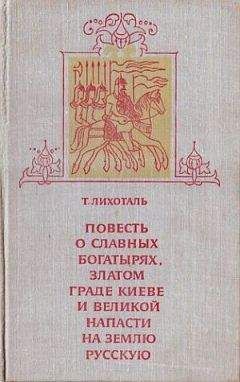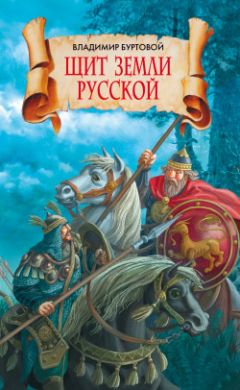Гридень Сигвальд, помешивая кашу в котле, висящем над костром, тоже с интересом внимал тысяцкому Путяте. Сигвальду, как и Добрыне, не довелось поучаствовать в походе на Корсунь.
— Неудача с подкопом не обескуражила Владимира, — продолжил Путята, усаживаясь поудобнее на днище перевернутого деревянного ведра. — Владимир вскоре применил новую хитрость, повелев всему войску носить землю к стене Корсуня. Это продолжалось много дней. Ратники таскали землю в мешках, в ведрах, в носилках и на щитах. Постепенно возле стены образовался земляной холм высотой почти в пять саженей. Задумка Владимира состояла в том, чтобы по этой земляной насыпи наше войско смогло подняться на крепостную стену Корсуня. Все так бы и случилось, кабы не ушлые корсуняне. — У Путяты вырвался досадливый жест. — Сообразив, чем грозит им сия хитрость Владимира, греки сделали подкоп под стену и по ночам стали вытаскивать землю из насыпи, ссыпая ее внутри города. Наши ратники за день наращивали земляной холм, трудясь в поте лица, а ночью эта насыпь вновь уменьшалась благодаря стараниям греков. Продолжалось все это два месяца, пока не начались дожди и холода.
— Говорил я Владимиру, что воевать с ромеями — это не вятичей по лесам гонять, — обронил Добрыня, вороша палкой раскаленные головни. — Что же дальше было, друг Путята?
— На восьмой месяц осады со стены Корсуня в наш стан прилетела стрела с запиской на клочке бумаги, — промолвил Путята. — В той записке было сказано, где под землей проходят трубы, по которым в Корсунь поступает питьевая вода из подземных источников. Владимиру надлежало перекопать эти трубы, чтобы оставить корсунян без воды. Владимир так и сделал. И через неделю Корсунь открыл ворота.
— Кто же пустил стрелу со стены? — поинтересовался Сигвальд. — Неужели среди корсунян были русичи?
— Нет, русичей в Корсуне не было, — сказал Путята. — Стрелу выпустил грек Анастас, муж хитрый и корыстный, пожелавший таким образом заслужить милость Владимира. Анастас добился своего, Владимир щедро наградил его, сделал своим мечником и взял с собой в Киев.
— Так вот отчего этот ромей все время крутится подле Владимира! — усмехнулся Добрыня. — А я-то все никак не могу взять в толк, почто мой племянник так благоволит к этому Анастасу.
От реки веяло сыростью и прохладой. В просветах между стройными могучими соснами алело закатное небо. Сгрудившиеся на мелководье насады с высокими драконьими головами на носу напоминали большую стаю задремавших гусей.
Киевляне стояли станом на низком берегу реки Каспли, являвшейся важным звеном в великом торговом пути из варяг в греки. Вытекая из лесного Касплинского озера, река Каспля впадает в Двину, двигаясь вверх по которой можно добраться до волока, за которым расположены верховья небольших рек Полы и Сережи. Если идти вниз по течению Полы, то вскоре впереди откроется огромное Ильмень-озеро. Если направиться по течению Сережи, то можно попасть в стремительную реку Ловать, которая тоже впадает в озеро Ильмень. Этим путем вот уже больше ста лет ходят караваны торговых судов с севера на юг и обратно.
На зеленом лугу в сгущавшихся сумерках белеют палатки и льняные рубахи дружинников, суетившихся возле потрескивающих костров. Влажный теплый воздух был пропитан запахами камыша и дыма.
Добрыня по своей привычке обошел караулы, расставленные вокруг стана. Когда он вернулся обратно к костру, то Сигвальд сказал ему, что каша сварилась.
— Можно доставать ложки, — промолвил варяг, снимая черный от копоти котел с палки, закрепленной над кострищем на двух суковатых рогатках, воткнутых в землю.
— А где инок Аким? — Добрыня завертел головой по сторонам. — Надо и его позвать к трапезе.
— В палатке он сидит, все что-то пишет на бумажном свитке, — проговорил Путята, роясь в походном мешке в поисках ложки. — Мы еще до Новгорода не добрались, а Аким уже почти весь свиток исписал. Чего он там строчит, все едино греческие письмена на Руси почти никто не разумеет.
— Дай срок, друже, — сказал Добрыня, усаживаясь возле горячего котла с гречневой кашей. — И на Руси будет много грамотеев, как и в Царьграде. Дай срок!
Сигвальд заглянул в палатку, где горел масляный светильник, установленный на пузатом бочонке. Рядом на низкой скамеечке притулился молодой монах Аким, который пробегал глазами узкий бумажный свиток, покрытый ровными строчками греческих письмен, выведенных чернилами. На бочонке подле светильника стояла медная чернильница с воткнутым в нее гусиным пером. На бледном лице Акима с тонким благородным носом, низкими бровями и большими светлыми глазами застыло выражение сосредоточенной задумчивости. Небольшая бородка и длинные волосы, перехваченные на лбу повязкой, придавали ему облик умудренного жизнью аскета.
Сигвальд, владеющий греческим языком, окликнул Акима, позвав его на ужин к костру.
— Да, да, уже иду! — закивал Аким, вновь берясь за перо. — Вот допишу сей эпизод и сяду трапезничать.
— О чем хоть твоя летопись, друже? — осторожно поинтересовался Сигвальд, глядя на то, как перо в руке монаха быстро и уверенно выписывает на бумаге строку за строкой.
— О великом почине пишу, — не глядя на Сигвальда, ответил Аким, макая перо в чернила и продолжая выводить буквы и слова. — О снисхождении на Русь светоча истинной веры и учения апостольского, низвергнувших темную власть бесов и языческих идолов.
Глава пятнадцатая
Огнем и мечом
Отголоски массового крещения киевлян докатились до Новгорода вместе со здешними купцами, пришедшими домой мимо Киева днепровским речным путем. Бояре и купцы новгородские решили было, мол, чудачит князь Владимир по молодости лет, с огнем играет, низвергая дедовских богов ради веры во Христа. Всерьез же в Новгороде никто не забеспокоился, ибо люд здешний полагал, что киевская знать скорее сгонит Владимира со стола княжеского, чем изменит вере в языческих богов.
И вот в Новгороде объявились Добрыня и Путята во главе дружины, которые собрались обращать здешний народ в веру христианскую по воле князя Владимира. Оказывается, князь Владимир не только трона не лишился, но сидит на нем крепче, нежели в былые годы.
По своему обыкновению, новгородцы собрались на вече, дабы обсудить волеизъявление князя Владимира, донесенное до них Добрыней и Путятой. Общее настроение новгородцев было таково: никто из них не желал добровольно креститься и отказываться от старых богов. Громче всех возмущался новгородский тысяцкий Угоняй.
Взобравшись на дощатое возвышение, Угоняй сорвал с головы соболью шапку и колотил себя кулаком в грудь, обращаясь к гудящей толпе: