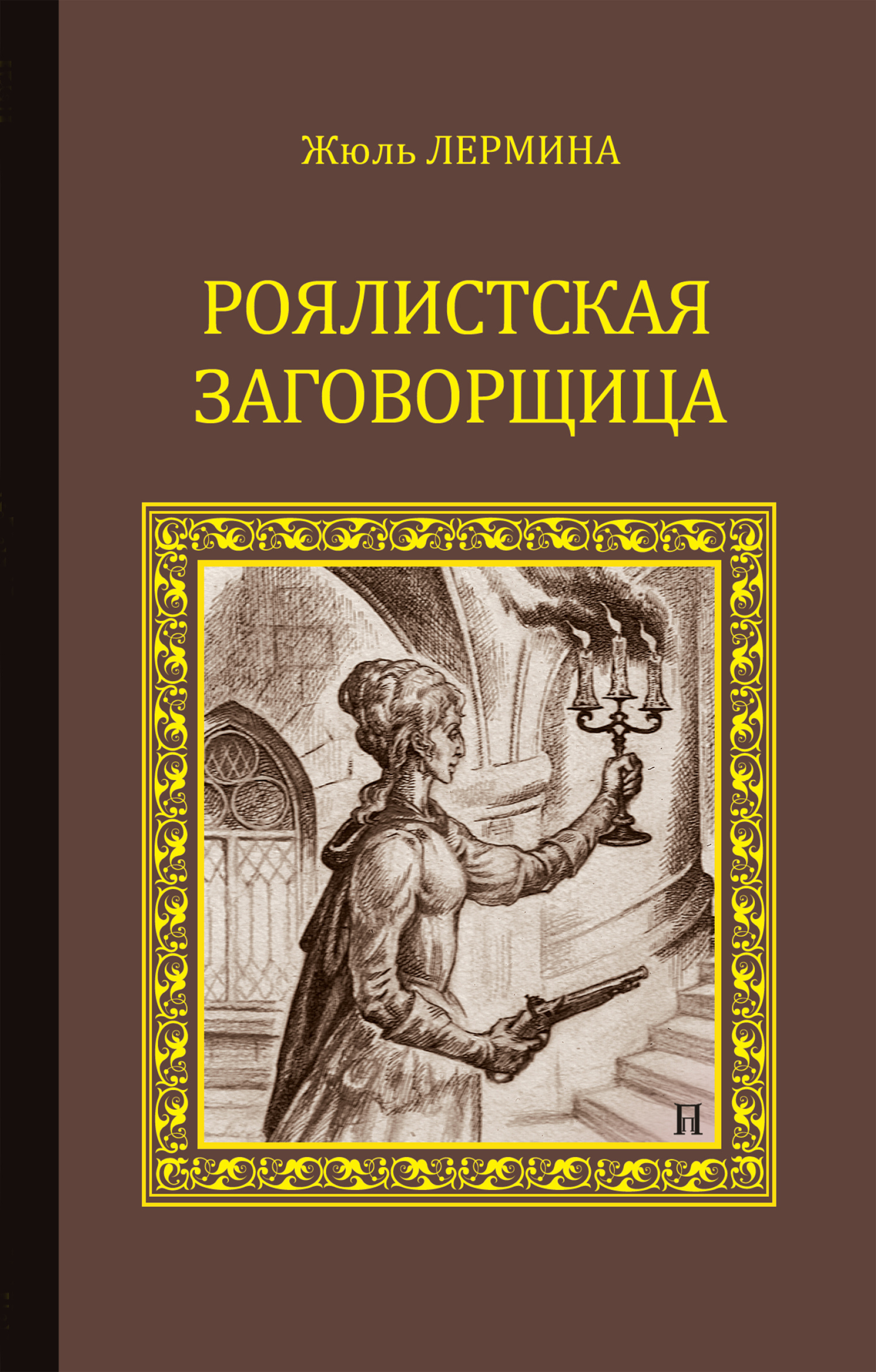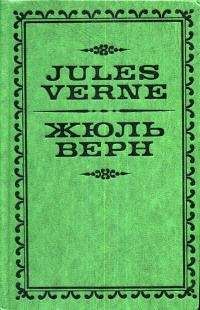class="p1">– Что вы хотите этим сказать?
– Ничего, кроме того, что я сказал. По всей вероятности, мы будем расстреляны оба. Вы, верно, знаете обычай соблюдения, так сказать, иерархии в смерти. Не будьте в претензии: у капитана предполагается больше твердости духа, чем у поручика, сперва расстреливают младшего. Следовательно, вы умрете раньше меня. Боятся, чтобы вы не спасовали при виде смерти вашего капитана. Таково правило. Не будем его оспаривать. Но мы имеем дело с англичанами: быть может, у них это иначе, не знаю. Допустим всякие гипотезы. Во всяком случае, – прибавил он почти весело, – кому-нибудь из нас двоих придется умереть первым.
– Пусть это буду я.
– На вашей стороне все шансы, мой юный друг. Но предположим даже невозможное. Между минутой взведения курков и минутой, когда пуля попадет в вас, может произойти… Почему знать? Один может пережить другого. Кто умрет раньше? Вы ли? Я ли? Во всяком случае, у вас и у меня есть привязанности, есть обязательства. Я верю вам. Доверьтесь и вы мне. Если вы умрете и я переживу вас в силу какого-нибудь непредвиденного обстоятельства, что вы мне завещаете, какое поручение?
– Выслушайте меня, – начал Лорис. – Я достаточно открыл вам свою душу, и вы поймете меня. Я был роялистом, безумным, бессознательным, увлеченным каким-то мистицизмом законности, которого не буду даже отстаивать. В настоящее время я постиг человеческое право. Разум вернулся во мне, но я не хочу и не могу вернуть моего сердца, оно не принадлежит мне. Я люблю… поймите всю глубину, весь смысл этого слова, сказанного на пороге смерти, в самом широком его смысле. Я люблю Регину де Люсьен…
Жан Шен не шевельнулся.
– Продолжайте, – сказал он только.
– Если б вы знали, сколько в ней доброты, героизма, пыла страсти. За своего короля и за Бога Регина способна отдать жизнь. Она предана им всецело во имя добра, во имя идеи справедливости. Не будем спорить о принципах, скажу вам одно: Регина – это олицетворение честности. Я люблю её всей силой души, со всеми порывами моей молодости, со всеми увлечениями зрелого возраста, – вы понимаете, я люблю ее. В этом слове все. Если я умру, скажите ей… о Боже! быть может, она теперь ненавидит меня, объясните ей меня, объясните, какому побуждению я последовал; я не ищу извинений, но я хочу, чтобы она знала, что если я перестал служить идее, которой она посвятила себя, я все-таки остался ее другом, любовником, женихом. Какое мне дело до короля! – сказал я ей однажды, но есть нечто, чего я не мог сказать: это – какое мне дело до отчизны! Пусть она мне это простит. Простите и вы мне, Жан Шен, что в последнюю минуту жизни я больше думаю о ней, чем о Франции; за Францию я умираю, пусть же ей принадлежит последняя мысль в моей жизни.
– Сын мой! – воскликнул Жан Шен, обнимая его, – выслушайте и вы меня в свою очередь. Наши взгляды, Жорж, складываются под влиянием времени, в котором мы живем. Вы молоды. Я же сын 1792 года. Моя кровь, моя жизнь, мой мозг носят на себе отпечаток эпох, которые мы называем великими и которые были главным образом ужасны. Как сын, как муж, как отец, я вижу перед собой эту ужасную войну каст, которую я порицаю и из-за которой я так много выстрадал. Я не якобинец: это – глупое слово. Я защитник права, истины, справедливости. Где зло – там и я, отстаивая добро. Эта тоже своего рода страсть, и дайте мне сказать, самая достойная! Мне необходима вся сила моей веры в мои последние минуты. Быть может, я отдался ей настолько, что забыл мои ближайшие интересы, интересы сердечные. Что делать! делиться не приходится. Но я вам все-таки скажу, де Лорис, вы знаете, какое место занимает в моем сердце Марсель… Я думаю о ней… С моей смертью она остается совершенно одинокой… Что станется с ней? Согласны ли вы быть ей братом?
– Конечно, даю вам слово. Я люблю мадемуазель Марсель как друга, как сестру. Говорю это на случай, если бы вы от меня потребовали большего, чтобы я посвятил себя всецело ей. Но зачем говорить об этом, раз нам обоим предстоит умереть.
– Надо, чтобы вы знали, кто я и кто она… Вы любите Регину де Люсьен, знайте, что она сестра матери Марсели!
– Разве Марсель тоже Саллестен?
– Говорю вам – сестра Регины… Слушайте.
И в коротких словах Жан Шен повторил свой рассказ Картаму.
Слушая его, Жорж вспомнил, что Регина говорила ему однажды об этой сестре, но с какою ненавистью!
Но нет, она великодушна… ее глаза раскроются когда-нибудь пред светом доброты, как разверзлись его собственные очи. И у него стало храбрости солгать:
– Регина говорила мне о своей сестре, она будет любить ее дочь.
– О, как бы я желал ей этого! – воскликнул Жан Шен. – Для нее это будет возрождением…
– Я отвечаю за нее.
– Напишем наши завещания! Нам оставили бумагу, особого рода сострадание… Я завещаю вам Марсель…
– Если же я умру и вы переживете меня, чего я от души желаю, так как я одинок на свете, я завещаю вам мою Регину… вот что я пишу; «Регина, я люблю вас… сердце мое бьется только для вас, и в минуту смерти имя ваше будет на моих устах… Не проклинайте меня. Сохраните обо мне добрую память… и не забудьте, что есть нечто, что выше всего – справедливость и доброта. Я люблю вас».
Затем следовала подпись.
В это же время писал и Жан Шен.
– Завещание уважается, – проговорил он. – Не забудьте, что вы брат Марсели.
Они обменялись бумагами.
Пробило десять с половиной часов.
– Еще полчаса, – сказал Жан Шен. – Как мы быстро старимся! Для преступника последние минуты должны быть ужасны. Я покоен, а вы?
– Я даже не считаю времени. – И он прибавил почти весело: – Если бы мне сказали месяц назад, что я буду расстрелян, как солдат Бонапарта!
– Вы на меня за это не в претензии?
– Что вы!.. Я умираю солдатом Франции и горжусь этим.
Они еще разговаривали, когда открылась дверь.
Их ожидал небольшой отряд.
Они поцеловались.
Затем последовали за солдатами.
На башенных часах пробило 11 часов.
В то время решетка парка была не на том месте, как теперь. Площадь на берегу Сены была прежде гораздо обширнее, она простиралась до самых водопадов.
Они шли, окруженные английскими солдатами.
Они пришли к набережной.
Здесь их поставили спиной к реке. Три роты образовали круг, открытый к мосту. Офицер с обнаженной шпагой