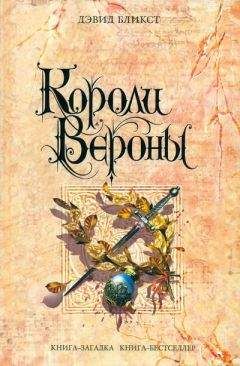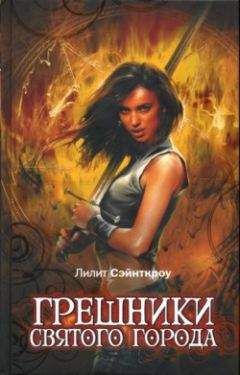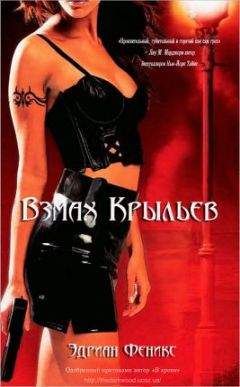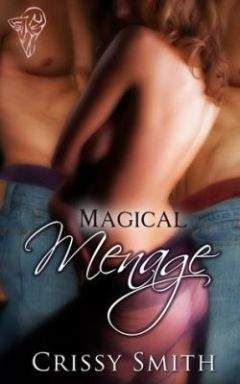Новый фарсетто вызвал у Поко живейший интерес.
— Капитан знает толк в сукне, — изрек он.
Взяв бриджи, Поко добавил:
— И какой он деликатный! Помнит, что ты теперь не носишь кольцони. А что за шляпа! Ты только посмотри на это перо! Оно великолепно. Яркое, но не кричащее.
Данте с трудом сдерживал смех.
— Поко, я серьезно. Замолчи, пожалуйста, — повторил Пьетро.
Но младший брат был в ударе. Пурпурный цвет наряда вызвал у него новый приступ красноречия.
— Ого, тирский пурпур! Только императорам да сенаторам было позволено носить такую одежду. Видишь, это не какой-нибудь там лиловый, это, скорее, оттенок спелой сливы. А знаешь, как добывают пурпур? Его добывают из чернильных мешочков средиземноморских мидий. Чтобы получить одну унцию, нужны сотни ракушек. Сначала ракушку разбивают, затем достают крохотный мешочек, в котором краски — всего несколько капель.
— Боже мой, Поко, откуда такие познания в красильном ремесле? — донесся из дальнего угла комнаты голос Данте.
— Когда мы жили в Лукке, я… я водил знакомство кое с кем из тамошней красильни.
Данте вскинул брови.
— Вот как? Почему же ты не представил мне этого кое-кого?
Джакопо пожал плечами и в глубоком раздумье пнул башмаком ножку кровати.
— Отец, вы не одобрили бы. Я хочу сказать, вы сочли бы это знакомство не соответствующим…
— И чему же она не соответствовала?
— Разве я сказал, что это была девушка?
— Не сказал, но уклончивый ответ паче присяги. Клянусь, Поко, если ты…
— Отец, — вмешался Пьетро, — Капитан ждет.
Нижняя челюсть Данте продолжала ритмично двигаться под покровом бороды. Поэт решил отложить допрос до лучших времен. Ворча, что и Поко не избежал тлетворного влияния современных нравов, Данте тщательно обматывал шею шарфом. В свои четырнадцать Поко уже имел за плечами интрижку. Пьетро почувствовал легкий укол зависти к младшему брату.
Они вышли из дома на рассвете. Меркурио деловито путался у Пьетро под ногами. Едва миновав арку с разукрашенной ради праздника костью чудовища, они стали свидетелями сугубо современного феномена. Толпа, заполонившая пьяцца делле Эрбе, узнала Пьетро. Словно рябь, пронесся ропот, и вот уже толпа аплодировала, причем не поэту Данте, а его старшему сыну. Баилардино был прав — боевые раны производили на людей особое впечатление. Рана являлась самым веским доказательством преданности ее обладателя правому делу и Богу.
Странным образом почтение к ранам переросло в страсть к увечьям. Стойкость и бесстрашие рыцаря считались прямо пропорциональными тяжести ранения. Сам Пьетро полагал такие рассуждения глупыми. Опытный, умелый воин — такой, как Скалигер, — избегает ранений. В то время как Кангранде в глазах простолюдинов был кем-то вроде ангела мщения, Пьетро молва почему-то возвела в ранг земного романтического героя. Ранение его было именно такое, как положено, — не изуродовав лица, оно оставило доблестную хромоту.
— Не спи, сынок, — шепнул Данте, когда Пьетро столкнулся с каким-то типом. — Ты уже не такой ловкий, как прежде.
— Mi dispiache, — бормотал Пьетро, стуча костылем, — толпа норовила подхватить его на руки и донести до Арены, и он изо всех сил старался казаться самостоятельным. Хуже того: несколько молодых особ бросали на него страстные взгляды. Верный Меркурио старался охладить их пыл рычанием.
Давка прекратилась только у Порта Борсари. Когда позади осталась старая римская арка, Пьетро предложил свернуть в переулок.
— Там будет меньше народу.
Поко предложение не понравилось, зато Данте скроил кривую улыбку.
— Так-то, сынок. Теперь тебя, а не меня преследуют поклонники. Ну и слава богу.
Под кривизною лица великий поэт пытался скрыть гордость за сына.
«Отец совсем не стар. Он только ведет себя как старик».
Годы, проведенные за чтением и письмом, сгорбили спину Данте, но Пьетро хорошо знал, что сутулость — отнюдь не признак старости. На заре нового века Данте было тридцать пять; последующие четырнадцать лет оказались куда сумрачнее леса, в котором очутился поэт, «земную жизнь пройдя до половины». Помимо прочих испытаний, Данте перенес конфискацию имущества и унижение заемщика, вынужденного существовать на приданое жены. В глазах друзей и семьи он стал hostis. Трое из шести совершенно здоровых детей его умерли. Алигьеро — они с Пьетро были погодки — в возрасте двенадцати лет скончался от чумы, выкосившей половину города. Эта же зараза унесла жизнь самого младшего брата, Элизио, — тому было восемь. Данте даже никогда не видел Элизио — он родился через три месяца после оглашения приговора об изгнании.
Больнее всего Данте переживал смерть своего первенца, Джованни, наделенного правами и обязанностями, которые теперь перешли к Пьетро. Когда Данте изгнали, Джованни было всего девять лет, и он немедленно присоединился к отцу. В скитаниях прошло еще девять лет. Во время путешествия в Париж с целью посетить Парижский университет Джованни утонул в реке. Власти Флоренции не позволили Данте вернуться и похоронить сына на родине — прах Джованни покоился теперь в Пизе, благодаря любезности Угуччоне да Фаджоула.
Трагедия круто изменила жизнь Пьетро. Ему в ту пору было почти шестнадцать, и отец вызвал его в Париж, чтобы он занял место старшего брата. Младшие, Поко и Антония, остались с Джеммой во Флоренции, на попечении Франко, брата Данте. Однако вскоре прошел слух о том, что всех детей изгнанников мужеского пола ждет казнь, и Джемма поспешно отправила к Данте и Поко. Данте не выразил радости по этому поводу — он предпочел бы вместо Поко видеть Антонию. А теперь, как следует из последнего письма, Антония едет к ним, и скоро вся семья наконец-то будет в сборе.
Возможно, Данте состарило изгнание, однако Пьетро воображал, что здесь вина «Комедии». В июне поэту должно было исполниться пятьдесят; каждый прожитый день, казалось, прибавлял ему десять лет. Конечно, он отдыхал во сне; но каждый штрих на бумаге стоил ему целого дня жизни. Сегодня праздник, думал Пьетро, значит, отцу можно не заниматься изнурительным сочинительством. В то же время юноша чувствовал, с какой неохотой отец идет развлекаться. Договор со Скалигером обязывал Данте присутствовать на подобных торжествах. То была непомерная плата за целый потерянный для творчества день.
Пьетро так глубоко ушел в свои мысли, что, подняв глаза и увидев огромное пространство, сравнимое с греческой агорой или римским форумом, вздрогнул. Кругом были люди, тысячи людей; они жались друг к другу, чтобы согреться. Данте с сыновьями вышел на пьяцца Бра. Солнце уже проглядывало между башен Вероны, и, хотя первый забег состоялся всего часов пять назад, нарушители общественного порядка успели уже и наотмечаться, и получить свою порцию розог за это отмечание от людей Скалигера.