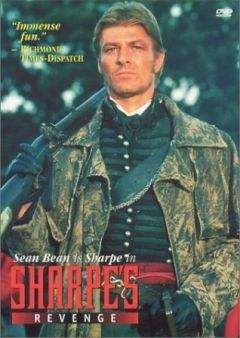Связанного Дюко отправили в трюм. Очки он потерял и близоруко моргал, щурясь от света, пока Шарп не захлопнул крышку. Гренадёры перешучивались. Они победили. Пусть Вилла Лупиджи — не Йена и не Ваграм, однако Старая Гвардия снова одержала победу для императора, когда никто в мире подумать не мог, что император ещё может где-то кого-то побеждать.
Кальве обнял Харпера, осторожно облапил Фредериксона и, наконец, заключил в объятия Шарпа:
— Прощаю тебе твою известь, англичанин. Должен признать, для парня, которого угораздило родиться не во Франции, ты сражаешься вполне прилично.
Шарп ухмыльнулся:
— Вам повезло, генерал, что война закончилась. Бог любит троицу, и в третий раз я бы вам опять задал перцу.
— Кто знает? — хитро прищурился Кальве, — Может, нам и представится случай помериться силами в третий раз. У императора теперь хватит средств начать снаряжать новую армию.
Глядя на прищур Кальве, Шарп почему-то вспомнил другого генерала. Нэн мечтал скрестить клинки с самим Наполеоном. Нэн погиб, и его кости гнили посреди редута у Тулузы. Редута, который он отбил у Кальве.
— Всё кончилось, генерал. И армии, и сражения.
— Да, кончилось. — Кальве отвернулся, — Войны, сражения. Вы, я. В Европе царит мир и благорастворение воздусей, а мы лишние. Наша охота закончилась. Мы — гончие, а бал нынче правят лисы.
Кавалеристы бестолково топтались по причалу за кормой баркаса.
— Только попомните мои слова, друг мой, года не пройдёт, как мы с вами залаем вновь!
— Я, пожалуй, отгавкался, генерал.
— Это вы сейчас так говорите. — искоса ухмыльнулся Кальве, — Чёрного кобеля не отмоешь добела.
Шарп оглядел горизонт. Подёрнутая дымкой грань между небом и морем была помечена парусами двух кораблей.
— Что намерены делать, друг мой? — спросил Кальве.
— Отвезу Дюко в Париж и отдам Веллингтону. Герцог, вероятно, передаст ублюдка властям.
— Каким властям?
— Тем, которые казнят Дюко за убийство Анри Лассана.
Кальве насмешливо сморщил нос:
— Рядовое преступление так заботит вас?
— Оно заботит мадам Кастино.
Кальве погрозил Шарпу пальцем:
— Для человека, изучавшего французский вне постели мадам Кастино, вы слишком близко к сердцу принимаете её заботы, а?
От необходимости комментировать слова генерала Шарпа избавил выстрел неаполитанского кавалериста. Пуля булькнула в воду метрах в ста от кормы. Отвечать итальянцу никто из пассажиров баркаса не потрудился.
Кальве пошарил в одном из ранцев и достал горсть драгоценностей. Выбрав крупный кроваво-красный рубин, он протянул его Шарпу:
— Передайте мадам Кастино. Вольно или нет, она своим письмом оказала услугу Франции.
— Франции или Наполеону?
— Наполеон, друг мой, и есть Франция. Закуйте его в цепи, бросьте на голый утёс в океане, и голый утёс станет частью Франции, ибо там будет находиться её сердце. — Кальве взял ладонь Шарпа и вложил в неё камень, — Простите, что не могу дать вам больше. Права не имею. Обидно, да? Стрелять золотом из пушки и не получить ничего самому…
— Переживу. — пожал плечами Шарп.
Кальве подмигнул ему:
— Ничего не поделаешь, англичанин, так уж всегда выходит. Французы в конце концов одерживают верх.
— Vive l’Empereur, mon General.
— Vive l’Empereur, mon ami.
Часом позже они пересели на пьемонтское торговое судно, капитан которого за жменю золотых франков согласился принять их на борт. Путь Кальве лежал на Эльбу, Шарпу подошёл бы любой корабль британского военно-морского флота.
Пусть они и являлись гончими в царстве лис, но они выжили там, где слишком многие умерли, а это было уже кое-что. Войну сменил мир, и гончим приходилось искать себе в нём место.
Пьер Дюко умер в крепостном рву, расстрелянный взводом солдат армии нового французского короля Людовика XVIII. По нему никто не плакал, даже рядовые расстрельной команды, втайне хранившие верность изгнанному императору. Дюко предал Наполеона, предал Францию, а потому был застрелен, как бешеный пёс, и похоронен, как самоубийца, в безымянной могиле за крепостным валом.
В Лондоне весть о расстреле Дюко лишила сна юного адъютанта принца-регента. На француза лорду Россендейлу было начхать, но его смерть знаменовала триумф Шарпа, который, полностью очистив своё доброе имя, мог со дня на день пересечь Ла-Манш. Мысль бежать в Ирландию, где у его семейства оставались кое-какие не отобранные за долги имения, лорд, поколебавшись, отверг. Будь, как будет, решил он. Каждый день Россендейл брал уроки у преподавателя фехтования на Бонд-стрит, а по вечерам палил из дуэльных пистолетов во дворе Кларенс-Хауса. Он утверждал, что не хочет терять навыки, но приятели хихикали за его спиной, не сомневаясь, что Джонни ждёт картеля.
— Он уехал из Парижа. Он и ещё двое выехали в Кале. — осенним утром сообщил Россендейл Джейн.
Джейн не нужно было уточнять, о ком идёт речь:
— Откуда ты знаешь?
— Вчера прибыл гонец из нашего посольства.
Джейн задрожала. Дождь за окном шторой серого тюля отгородил парк.
— И что теперь? — спросила Джейн, боясь услышать ответ.
Россендейл криво улыбнулся:
— Это называется «прогулка перед завтраком».
— Нет… нет, не надо.
— Надо-не надо, он пришлёт мне вызов, я выберу оружие, и вперёд — к барьеру. Вряд ли мне посчастливится выжить.
— Нет.
Джейн жаждала отговорить Джона от дуэли, но те доводы, что готовы были слететь с её языка, в своё время оказались бессильны убедить отказаться от дуэли с Бампфилдом Шарпа, и она беспомощно молчала.
— Фехтовальщик я никудышный. — вслух размышлял Россендейл, — Значит, остановлюсь на пистолетах и заработаю пулю.
— Так не дерись, Джон! — страстно воскликнула Джейн.
— Не драться — позор, любовь моя. Позор, от которого не отмыться.
— Тогда я пойду к нему! — с вызовом сказала она, — Буду валяться у него в ногах!
— В этом тоже нет чести. — показал головой Россендейл, думая, что за пренебрежение честью, даже в малом, рано или поздно приходится платить «прогулкой перед завтраком» сырым ненастным утром.
И любовники, не смея бежать, с трепетом ждали прибытия человека, что подъезжал к Кале.
Честь майора Шарпа и капитана Фредериксона же сияла ярко и незамаранно. Им были принесены извинения, их восстановили в чинах. Сидя в отдельном кабинете трактира в Кале перед тарелками, наполненными бараньими отбивными, яйцами, чесночной колбасой и чёрным хлебом, они строили планы на будущее.
— Вы сразу, конечно, в Лондон? — предположил Фредериксон, прихлёбывая кофе.