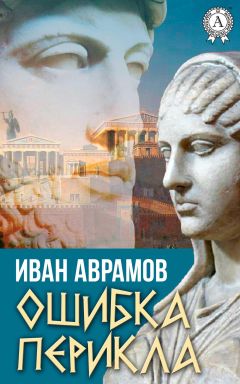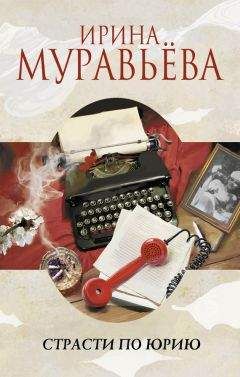— Смелее, Фидий! Ты среди друзей, поэтому выкладывай все как на духу, — уже откровенно веселился стратег, что, в общем-то, было ему не очень свойственно.
— Не томи нас, Олимпиец. Полагаю, о секрете мы услышим как раз из твоих уст. А я, признаюсь, сильнее других сгораю от любопытства.
— Хорошо, — к Периклу опять возвратилось серьезное настроение. — Кстати, а не присесть ли нам? Вон те две скамьи, кажется, уже давно поджидают нас.
Солнце перевалило зенит, и черный мрамор скамей, будто изголодавшись по весеннему теплу, жадно, ненасытно впитывал его, зная, что с наступлением сумерек с ним опять придется распрощаться. Усевшись, Перикл аккуратно стряхнул с сандалий легкую пыль и с наслаждением вытянул ноющие ноги, отметив про себя, что те длинные пешие переходы, которые он когда-то, играючи, преодолевал в военных экспедициях, сейчас, пожалуй, не осилит. Жаль, ох, как жаль, что боги не даровали простым смертным вечную молодость.
— Что ты, Фидий, можешь сказать о Поликлете или, допустим, Мироне?
— Величайшие ваятели Эллады. И ты это знаешь не хуже меня. «Дискобол» Мирона как нельзя лучше передает энергию движения. Пожалуй, Мирон первым отказался от статики, столь присущей архаичным куросам.[26]Поликлетов же «Дорифор»[27]— это канон красоты и гармонии человеческого тела. Канон, в основе которого математическая точность. Будь сейчас Пифагор жив, он, с его преклонением перед мистикой чисел, наверняка бы сказал похвальное слово в честь Поликлета. Если позволишь, напомню тебе изречение самого Поликлета: «Успех произведения искусства зависит от многих числовых отношений, причем всякая мелочь имеет значение». Между прочим, создавая «Копьеносца», он, не поверишь, буквально каждую часть тела, то, как она соотносится с другими, вымерил в пальмах.[28]Но что значит гений художника: юноша с копьем безбоязненно смотрит вперед, шаг его совершенно спокоен, это воистину свободный эллин. Поликлет отлил статую из бронзы, и у меня такое ощущение, что расплавленный металл, растопив холод цифр, снизил свою температуру до обычного тепла человеческого тела.
— Ну, а рассказывать о том, что сделал для вящей славы Афин сам Фидий, видимо, излишне. Не знаю, прав ли я, но в сравнении с Поликлетом и тем же Мироном ты, Фидий, имеешь заметное преимущество. Погоди, не горячись, — заметив негодующий жест скульптора, успокоил его Перикл. — Я вовсе не о том, кто из вас, так сказать, лучше. Насколько известно, большинство твоих творений изваяны из мрамора. А камень, уверен, долговечнее, чем металл. Благородная бронза, даже если это статуи и статуэтки знаменитых мастеров, может вновь оказаться в огненном тигле. Ее, если подопрет нужда, переплавят на щиты, копья, наконечники стрел, все, что угодно — Арес,[29]как это частенько бывает, отпихнет в сторону Аполлона… Теперь, надеюсь, вы поняли, в чем секрет Фидия, а заодно и нашего мраморного Парфенона, Акрополя.
— Ты думаешь, о, мудрый Перикл, что впереди у нас одни лишь войны? — раздумчиво спросил Иктин.
— Впереди то, что уже осталось позади. Все, к сожалению, повторяется. А мир улучшается медленно. Может, потому, что, как изрек Биант, сын Тевтама из Приены, «большинство людей плохи».
— Неужели, Перикл, ты допускаешь, что когда-нибудь от былого величия Афин не останется и следа? — заметно волнуясь, спросил Гиппократ.
— Хотелось бы верить, что такой день не настанет ни через десять, ни через тысячу лет. Однако надо смотреть правде в глаза. Боюсь, что уже очень скоро появится кто-нибудь, кто спасет греков.
— От кого?
— От самих же греков. Иначе они уничтожат, перебьют друг друга. Наши города-полисы беспрестанно враждуют, и вражде этой не видать ни конца ни края. А сами Афины, где властвует народоправство, разве не раздирают противоречия?
— Почему же так происходит? — наивно пытался докопаться до сути двадцативосьмилетний врач.
— Любое общество, Гиппократ, напоминает мне неизлечимо больного. Что это такое, ты, как врач, знаешь лучше меня. Людей снедают зависть, склока, корысть. Власть непрочь обрести даже те, кто не ведает, как ею элементарно распорядиться. Мы — народ с норовом и, случается, непомерно раздутым самомнением. Где два грека — там три партии. Партия аристократов, партия демократов и…
— …И партия любителей гетер, — совсем неосторожно, без всякой, впрочем, задней мысли произнес Сократ и тут же прикусил язык — стратег явно мог обидеться, отнеся реплику на свой счет.
— Это, кстати, была бы далеко не худшая из партий, — как бы даже поддержал философа Перикл, еще раз доказывая, что выдержка никогда не изменяла ему, да и вряд ли стоит сердиться по столь ничтожному поводу. — Но вернемся к тому, что заботит нашего молодого друга. Конечно, Афины, несмотря на их мощь и величие, это еще не вся Эллада. Если бы Аттика, Беотия, Лаконика, Арголида, Ахайя, Этолия, Аркадия и прочие государства, области, острова объединились, мы были бы непобедимы. Но пока что это бесплодные мечтания. Каждый полис думает, что именно он — пуп эллинского мира. Может, когда-нибудь Греция и станет единым целым. Когда — не знаю. Зато догадываюсь, что она перестанет быть великой, измельчает, выродится, если у нее не будет своих философов, поэтов, художников, ученых и полководцев, а их место займут торговцы, процентщики, морские пираты и мелкие продажные политики. Не хотел бы увидеть это собственными глазами!
— Никто не ведает, что сулит будущее, но сейчас, сдается мне, Афины переживают самый настоящий расцвет, — заметил хранивший доселе молчание Софокл. — Не подумай, что льщу тебе, мой высокочтимый друг, но несколько раз мне уже доводилось слышать, что афиняне называют время твоего правления золотым веком Перикла.
— Наверное, это и вправду так. Но — с одной стороны, — вымолвил Сократ и слегка выпятил свои и без того толстые, как у эфиопа, губы. — А с другой… Афины мне лично напоминают спелый плод. Может, даже скороспелый. Летнее яблоко, например. Сладкое, сочное, душистое, но уже обзаведшееся червоточинкой, которая прячется глубоко внутри и наружу еще не показалась.
— Наблюдение верное, — согласился Перикл. — однако новизной не блещет. Любой крестьянин подтвердит: да, так бывает. Расскажи подробнее, что ты разумеешь под червивым яблоком, вызревшим, если не ошибаюсь, на Пниксе?[30]
— Прости, Перикл, но это долгий разговор. Как-нибудь в следующий раз.
Перикл никак не обнаружил, что прозрачный намек философа, его многозначительная недомолвка, нежелание развернуть дискуссию ему неприятны, лишь одному Фидию, сидевшему напротив стратега, на миг показалось, что тот еле заметно поморщился — будто сделал глоток самосского вина.[31]