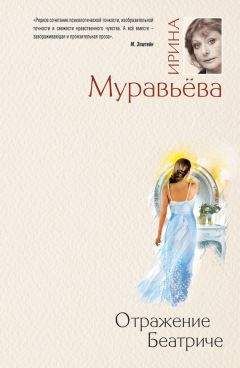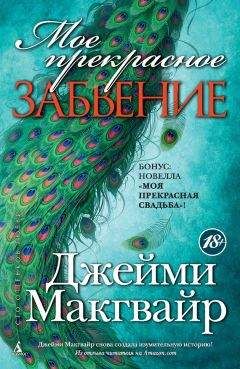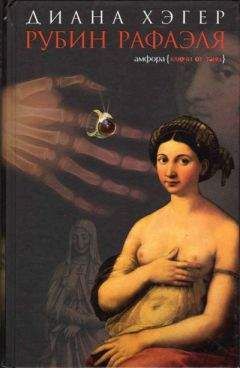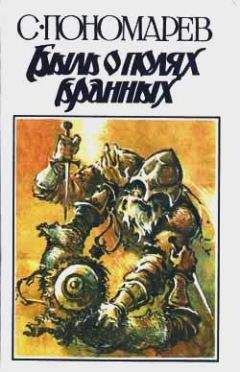И Фариначчьо заснул убаюкиваемый надеждами.
В три часа ночи (итальянцы считают час ночи через час после захождения солнца) судьи собрались в прежней зале. Один только канделябр с темным шелковым абажуром горит посреди стола: все сидят кругом и тихо обмениваются между собою словами. Слабый свет едва освещает лица, и всякий трепещет, чтобы на нем не отразилось затаенное в глубине чувство. Однако место, время и слова Фариначчьо, которые, казалось, продолжали еще раздаваться, наконец сама совесть, по-видимому, располагают в ползу помилования. Вдруг председатель совершенно неожиданно бросил взгляд на бумагу, на которую прежде не обратил было внимания, прочел ее, и лицо его из бледного сделалось мертвенным: он дрожащею рукою передал ее своему соседу, который, прочит ее, передал другому, и так далее, пока она не вернулась опять к председателю. Дрожь и бледность, как электрическая искра сообщились от председателя всему заседанию: все неподвижно садят, склонив головы и устремив глаза на красное сукно, которым покрыт стол; всех гнетет одна и та же мысль: шея каждого как бы чувствует прикосновение и тяжесть секиры палача…. Прочитав бумагу, все словно окаменели. Да и было от чего: бумага эта содержала в себе набело переписанный смертный приговор всего семейства Ченчи. Приговор этот гласил: Лукреции, Беатриче и Бернардино отрубить головы, Джакомо голову размозжить; всех терзать горячими щипцами и четвертовать; все имущество конфисковать и пользу апостольской камеры.
Долго длилось унылое молчание. Только и слышно было, как песчинка падала на песчинку в часах, да иногда раздавался треск горящих свечей: молчание было мертвое.
– Итак, мои судьи все люди недостойные? – раздался внезапно чей-то голос.
От этого неожиданного голоса перевернулись все внутренности у этих бледных купленных людей. Откуда этот голос? Глаза не могут видеть того, кто произнес грозные слова, но в конце залы слышатся во мраке тяжелые шаги. Все вскочили на ноги и обратились в ту сторону, откуда шел единственный в Риме человек, имевший право войти в залу в такую пору; все угадали в нем Христова наместника, который также один только и мог произнести приговор к смерти.
Президент с отчаянием в душе взял перо: дрожащею рукою опустил его в чернила, которые показались ему кровью, дрожащею рукою подписал… но все таки подписал; за ним подписали все прочие и, подписав, разошлись. Климент VIII тяжелыми шагами сошел с своего трона, подошел к столу, протянул руку за приговором и спрятал его у себя на груди, вместо кинжала.
Папа держал у себя на груди смертный приговор, выжидая удобного времени, чтобы объявить его. Ропот народа доходил до его слуха в Ватикан, как рев волны в бурю; надо было повременить, чтоб он успокоился, и тогда уже привести в исполнение свой план.
Пока он искал удобного случая, сама судьба доставила ему такой, удачнее которого он и сам не мог ни пожелать, ни придумать. Паоло Санта-Кроче, родственник семейства Ченчи, тот самый которого мы видели в начале нашего грустного рассказа, не покидал ни на минуту намерения убит свою мать, донну Констанцию, и ожидал только удобного времени. Случай представился ему в то самое время, когда смертный приговор Ченчи был уже подписав и папа не решался выпустить его в свет. Бедная донна Констанция удалилась в Субиако для поправления своего здоровья. Узнав об этом, дон Паоло тайком отправился вслед за нею и безжалостно убил ее на дороге, нанеся ей несколько ударов кинжалам;, потом, забрав всё, что только мог, он бежал от правосудия и законов. Происшествие это навело ужас за всё римское население; послышался уже ропот другого рода: «где теперь безопасность, где спокойствие для родителей?», слышалось отовсюду. Подобный говор был слишком выгоден для тех, кому нужна была смерть всех Ченчи, и они конечно поспешили им воспользоваться и постарались усилить новое настроение народа. Страх и ужас увеличились еще больше, когда отец Заноби, из иезуитов, подымая руки и вознося очи к небу, со вздохом воскликнул в своей проповеди, что «в наши времена бедным родителям грозит опасность заснуть живыми и проснуться мертвыми».
Папа видел, что настало время объявить смертный приговор и он, призвав монсиньора Таверну, отдал ему приговор, говоря:
– Поручаю вам исполнение, как только вы найдете это возможным. – Вслед за тем он удалился в свой дворец за Монте-Кавалло, над предлогом посвящения нового кардинала, а в сущности для того, чтобы избавится от просьб, и боясь поставить себя в необходимость быть милосердным.
Что же делает Беатриче в то время, когда всё готовится для её смерти?
Она спит с улыбкой на устах, как в ту ночь, когда стон умирающего разбудил ее и когда этот умирающий был её отец, убитый у её постели.
О, если б этот сон мог быть вечным сном! Если б она могла проснуться уже в объятиях Бога, в райских садах, далеко, далеко от этой проклятой земли, где для неё были насаждены одни только страдания!
Она все еще спит; но улыбка покинула её уста и брови её сдвинулись. О чем она думает? Вспоминает ли она о своей любви? или скорее о жестокости отца? или о своих мучениях? Послушаем, она говорит:
– О, Боже, за что ты так строг ко мне? Что я такое сделала?
Она пошевелилась и цепи её издали пронзительный звук, который отдался под сводом тюрьмы и замер; но этот звук не разбудил ее; она стонет во сне. Перед ней предстал призрак, с чертами брата её, дон-Джакомо; он подошел к её изголовью и произнес: «вставай, наш час настал»!
«Куда нам надо идти»? – спрашивает она; призрак нагнулся, точно хотел сказать ей что-то на ухо, и в эту минуту голова его скатилась с плеч и, окровавленная, упала на простыню. Беатриче испустила отчаянный крик и проснулась.
Она проснулась и, приподнявшись, бросала вокруг испуганные взгляды. Ничто не изменилось в её тюрьме: лампада, как и прежде; горит над её изголовьем пред образом Божией Матери; дальше своей постели она не различает ничего; глубокая тишина царствует в тюрьме, а между тем в одном из углов две коленопреклоненные фигуры молят Бога о успокоении её души.
Она слышит шаги. Наконец из мрака отделяется чья-то тень; луч лампады упал на неё, и она видит перед собой почтенного капуцина, истомленного годами и постом. Беатриче с удивлением смотрит на это бледное лицо и не произносит ни слова. Старик поднимает руку и благословляет ее, произнося молитву, которая именем Отца и Сына и Святого Духа изгоняет нечистую силу.
– Батюшка! – сказала Беатриче, когда он окончил: – во мне никогда не обитала нечистая сила.