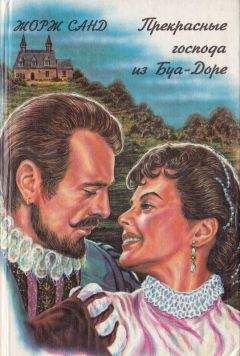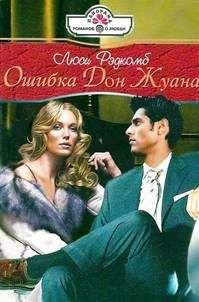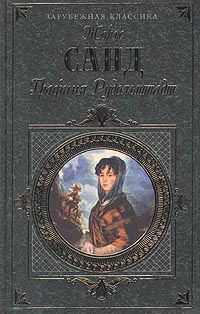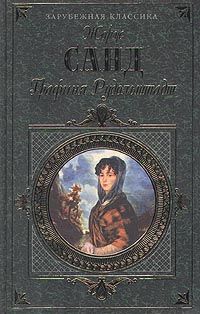Предоставляя ему болтать так, Буа-Доре хорошо видел, что его приманивали хорошие условия, которые королевская власть была вынуждена делать господам кальвинистам всякий раз, как она терпела неудачу. Де Бевр не был из людей продающихся, как другие, но из хорошо сражающихся и извлекающих прибыль из победы, без щепетильности, чтобы проявить себя очень требовательным к себе.
— Поскольку вы уверены, — сказал ему маркиз мягко, — нужно тогда мне сказать вам сейчас и не спрашивать моего мнения. Я могу сказать вам только одно. Вам нужно будет экипировать и увести с собой лучших из своих людей на эту кампанию. Подумали ли вы о той плохой партии, которую могут сыграть с вашей дочерью, если иезуитам придет в голову сообщить господину де Конде о вашем отсутствии? И подумали ли вы, что они не допустят осечки и что замок Ла-Мотт-Сейи подвергнется какой-нибудь оккупации именем короля, исполненной, как это происходит всегда, плохими людьми; ваша дочь подвергается опасности получить какое-нибудь оскорбление…
— Об этом я не подумал, — сказал де Бевр. — Предполагается, что я буду в Орлеане, где у меня судебное дело. Оттуда я отправлюсь без шума в Гиень, где возьму какое-нибудь старое военное имя, как это принято, чтобы защитить свое состояние и свою семью в мое отсутствие, я буду капитаном Шанделем или Ла-Пелем, или капитаном… не важно, каким.
— Задуманное, я знаю это, — продолжил Буа-Доре, — не всегда получается: я обещаю вам защитить ваш замок настолько, насколько это будет зависеть от меня и моих людей, но я не побоюсь вам предложить неприличную вещь, я вам предлагаю взять в мое жилище вашу Лориану на время вашего отсутствия.
— Предлагайте, предлагайте, мой сосед, потому что я принимаю и не вижу в этом ничего неприличного. Нет неприличия для женщины, которой дома грозит опасность для ее добродетели или ее доброго имени, и меня не смущает, что она будет среди вас, который станет ей дедушкой, вашего мальчика, который всего лишь мальчик, вашего философа, язык которого не сможет отклонить, и вашего пажа, у которого выражение лица обезьяны, моя дочь рискует потерять свое сердце или свой разум. Итак, я привезу ее вам и оставлю до моего возвращения, конечно же, она будет счастлива и в безопасности у вас, и вы будете для нее, как и для меня, лучшим из друзей и соседей.
— Можете на это рассчитывать, — отвечал Буа-Доре. — Я поеду за ней сам. Моя карета довольно большая, она сможет положить туда свои наиболее ценные вещи без того, чтобы кто-нибудь заподозрил, что она совершает не просто одну из своих привычных прогулок.
И действительно назавтра Лориана разместилась в Брианте, в Зеленом зале, который изобретательный Адамас быстро превратил в роскошные и комфортабельные апартаменты.
Мавританка попросилась прислуживать молодой даме, к которой она испытывала доверие и симпатию, и Лориана, которая тоже имела уважение и влечение к ней, попросила ее спать в небольшой комнате рядом с ее просторной комнатой.
Лориана расставалась со своим отцом с большим мужеством.
Благородное дитя не подозревало в нем никаких корыстных побуждений, она, которая жила верой и энтузиазмом. Она трудно понимала то, что надо было обдумывать, сомневаться и делать выводы для личной пользы. Она знала своего отца храбрым и видела его открытым, жизнерадостным, с благородством дворянина: этого было достаточно, чтобы она сделала из него героя.
Лориана, восторгающаяся прекрасным поведением людей Роана и Ла Форс в Монтобане, не препятствовала отцу в отъезде, думая, что он помышляет только о том, как восстановить честь дела, и что он видит во всем этом, как и она, что достоинство и свободу совести, пожертвованные Генрихом IV, надо хранить ценой состояния, жизни, если это потребуется!
Она не проронила ни слезы, обнимая его в последний раз, она провожала его взглядом до тех пор, пока могла его видеть, а когда он скрылся из вида, она вернулась в свою комнату и принялась рыдать.
Мерседес, которая работала в соседней комнате, услышала это. Она подошла к порогу, намереваясь войти, но не осмелилась. Она сожалела, что не знает языка, чтобы хоть как-то попытаться утешить Лориану.
Мерседес — девушка с материнским инстинктом — не могла спокойно наблюдать, как страдает юное сердце. Сострадая, она должна была чем-то помочь и придумала пойти за Марио, казалось, что никакое горе не сможет противостоять внешнему виду и ласкам ее любимца.
Марио тихо пришел на цыпочках и встал подле Лорианы, но она даже не заметила. Лориана уже была его нежно любимой сестрой. Она была так добра с ним, так жизнерадостна по обыкновению, так старалась развлечь его, когда он проводил с ней дни!
Увидев ее плачущей, он оробел: он думал, как другие, что господин де Бевр будет отсутствовать всего несколько дней.
Он встал на колени на край подушки, куда она положила ноги, и смотрел на нее весьма озадаченный, наконец он осмелился взять ее руки.
Она вздрогнула и увидела перед собой лицо ангела, которое улыбалось ей сквозь влажную пелену ее глаз. Растроганная чувствительностью этого ребенка, она пылко прижала его к своему сердцу, целуя его прекрасные волосы.
— Что это с вами, моя Лориана? — спросил он ее, осмелев от этого излияния.
— Ах, мой милый, — отвечала ему она, — твоя Лориана огорчена, как и ты был бы огорчен, если бы видел уезжающим своего доброго отца маркиза.
— Но он же скоро вернется, ваш отец, он же сказал вам так, уезжая.
— Увы, мой Марио, кто знает, вернется ли он? Ты же хорошо знаешь, что когда путешествуют…
— А разве он уехал далеко?
— Нет, но… Идем, идем, я не хочу тебя огорчать. Я хочу прогуляться. Хочешь ли ты пойти со мной поискать твоего отца?
— Да, — сказал Марио, — он в саду. Идем туда. Хотите ли вы, чтобы я сходил за своей белой козой, чтобы развлечь вас ее прыжками?
— Пойдем за ней вместе.
Она вышла, подав ему руку не как дама, опирающаяся на руку кавалера, а напротив, как маленькая мама, взяв мальчугана за руку.
Спускаясь по лестнице, они повстречали Мерседес, которая обласкала их взглядом своих красивых нежных глаз. Лориана, которая стала понимать ее по знакам, нужно было только взглянуть на нее, чтобы понять. Она угадала ее нежную заботу и протянула ей руку, которую Мерседес хотела поцеловать. Но Лориана отдернула руку и бросилась, расцеловав ее в обе щеки.
Никогда христианка не целовала мавританку, такую же христианку, как и она сама. Беллинда сочла бы себя опозоренной, получив от нее малейшую ласку, считая ее безбожницей, она испытывала отвращение, даже когда ела в ее обществе.