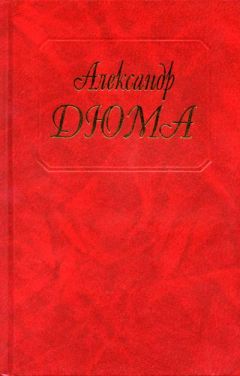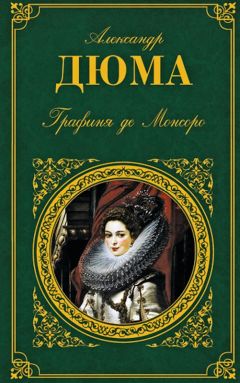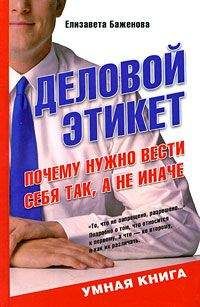— Может быть, прежде позвать лекаря?! — воскликнул Солсбери.
— Священника, дядюшка, скорее, прошу вас. Поверьте мне, время не терпит.
— Монсеньер! — крикнул Солсбери епископу Линкольнскому, сидевшему рядом с королевой. — Подите сюда, пожалуйста, здесь человек умирает.
Графиня тихо вскрикнула, многие женщины лишились чувств, а епископ, сойдя с помоста, занял рядом с раненым место Солсбери.
Тогда Уильям Монтегю, обретя силы для последнего жеста веры, встал посреди арены на колени и, сложив на груди руки, исповедался прямо в доспехах; потом епископ Линкольнский отпустил ему грехи в присутствии всех женщин, молившихся за молодого раненого, и всех рыцарей, просивших у Бога милости даровать им столь же святую и прекрасную смерть.
Когда отпущение грехов было дано, Солсбери подошел к племяннику, который, будучи в состоянии благодати и не страшась смерти, уже не противился тому, чтобы из его раны вытащили обломок копья; поэтому граф Солсбери, положив Уильяма на спину, наступил ногой ему на грудь и, напрягая все силы, вырвал из раны острие копья, потом он сразу же расстегнул шлем, который раньше снять было нельзя, и освободил голову Уильяма из этой железной клетки. Уильям потерял сознание; тут подбежали его оруженосцы, и с их помощью граф Солсбери перенес племянника в палатку.
Скоро пришел королевский врач, присланный Эдуардом, и осмотрел раненого. Солсбери, любивший Уильяма как сына, с тревогой ждал конца осмотра, не сулившего молодому рыцарю ничего хорошего. Лекарь измерил острие копья; по окровавленной ржавчине, покрывавшей его, легко можно было понять, что рана была глубокая, дюйма на два, поэтому врач покачал головой, как человек, ожидающий самого худшего. В эти минуты появились присланные королем слуги, чтобы перенести Уильяма Монтегю в комнату Виндзорского замка; но врач этому воспротивился, поскольку больной был слишком слаб и его нельзя было переносить.
Солсбери был вынужден покинуть Уильяма, так и не пришедшего в сознание, потому что дела требовали возвращения к Эдуарду: в этот же вечер он должен был выехать в Маргит, чтобы взять письменные обязательства Оливье де Клисона и передать ему и сиру д’Аркуру королевский приказ, даровавший им свободу. Солсбери принадлежал к тем людям, у кого на первом месте стоят дела службы, а потом сердечные привязанности, поэтому он покинул Уильяма, попросив врача заботиться о нем как о сыне.
Графиня попросила у короля разрешения не присутствовать на ужине, что Эдуард тотчас ей позволил, ибо он, как и все, понимал, какое горе должна она испытывать, переживая подобное несчастье. Всем было известно, с какой преданностью и каким уважением молодой человек охранял графиню, когда граф находился в плену; многие догадывались, что в поведении его молодого племянника ощущалось нечто более нежное, чем просто родственная связь, однако графиня Аликс слыла такой добродетельной женщиной, что ее репутация не пострадала от этой верности. Но, хотя все воздавали должное графине, не сомневаясь в чистоте ее чувств, она все-таки питала к Уильяму почти братскую дружбу, к коей можно прибавить ту нежную жалость, которую женщина, сколь бы добродетельной она ни была, всегда испытывает к мужчине, влюбленному в нее тайно и безнадежно.
Поэтому, когда вошел Солсбери, она и не пыталась прятать от мужа свое горе, будучи уверенной, что граф меньше, чем кто-либо другой, упрекнет ее за эти слезы. Солсбери самому пришлось собрать все свое мужество, чтобы сдержать собственные слезы, ведь он пришел попрощаться с ней, ибо, несмотря на настойчивые просьбы Эдуарда остаться, непреклонный посланник решил исполнить поручение, важность которого прекрасно понимал. Граф в тот же вечер уехал, поручив графине уход за Уильямом. Это расставание, сколь бы коротким ему ни предстояло быть, прошло под знаком печальных предзнаменований, и с обеих сторон было исполнено предчувствием такой большой беды, что, будь Солсбери человеком, чье сердце менее предано королю, а ум менее тверд в сознании своего долга, он умолил бы Эдуарда послать вместо него кого-нибудь другого завершить переговоры, начатые им; но граф в тот миг, когда ему пришла подобная мысль, отогнал ее от себя, как будто в ней было что-то преступное, и, черпая новые силы в этой своей слабости, простился с Аликс, заклиная госпожу свою ждать его в Лондоне или возвращаться в замок Уорк.
Когда графиня осталась одна, все ее печальные мысли, все ее грустные предчувствия сосредоточились на том горе, что причиняло ей несчастье, произошедшее с Уильямом. Поэтому, будучи не в силах оставаться в неизвестности, она вызвала пажа и приказала ему пойти справиться о здоровье раненого. Юный паж вернулся через несколько минут, ведь палатки отделяло от замка только ристалище. Уильям по-прежнему был без сознания, а врач ни в чем не изменил своих первых заключений: по его мнению, рана была смертельная, и хотя, если произойдет чудо, молодой человек может прийти в чувство, нет никакой надежды, что он доживет до рассвета. Этот ответ, которого и должна была ожидать Аликс согласно тому, что уже сказал граф, тем не менее потряс ее; и тогда ей вспомнилась такая нежная, но вместе с тем робкая преданность, эта неизменно чуткая, но неизменно безмолвная любовь, длившаяся все те четыре года, когда Уильям ни на минуту не расставался с ней, если только ему не приходилось, как то было в замке Уорк, покидать графиню, исполняя ее приказания и заботясь о ее безопасности. Все эти четыре года день за днем она читала в сердце молодого рыцаря как в книге, чьи страницы перелистывало время, и видела в этом сердце лишь молитвы о любви, что, казалось, возносили уста ангелов. Она живо представила себе, как этот несчастный раненый, еще вчера такой радостный и исполненный надежд, сегодня очнется, чтобы умереть, один, всеми покинутый в своей палатке, и Аликс показалось, что если он скончается в одиночестве, вдали от тех двух людей, кого он любил сильнее всего на свете, то роковые угрызения совести будут терзать ее до конца дней. Несколько минут она все еще колебалась, два или три раза вставала, но снова в нерешительности опускалась в кресло; она очень боялась, что люди превратно истолкуют этот визит к умирающему, хотя ее связывали с ним узы родства; но наконец зов сердца заглушил голоса молвы, и она, набросив на голову вуаль, одна, без пажа, без камеристки, без слуги, вышла из Виндзорского замка и пришла в палатку Уильяма.
Случилось то, что и предсказывал врач: Уильям очнулся, и ученый лекарь, получивший от Эдуарда приказ в равной мере заботиться об обоих раненых, воспользовался этой минутой, чтобы навестить Дугласа, чье положение, хотя и оставаясь тяжелым, было неопасным. Уильям же метался в сильном жару, но, несмотря на слабость, испытывал приступы бреда, во время которых его с трудом удерживали на ложе двое мужчин. В эти минуты ему чудилось, будто он видит какую-то тень; изо всех сил он рвался к ней и, хотя был скромен даже в бреду, звал ее, не называя по имени, то криками, то мольбами. Именно в одно из таких мгновений экзальтации графиня, неожиданно подняв ковровую портьеру, занавешивавшую вход в палатку, стала зримым воплощением лихорадочных видений раненого. Двое мужчин, державших Уильяма, отпустили его, увидев вопреки их ожиданиям, что явилось фантастическое существо, которое тот звал, а сам Уильям, как будто его видение обрело плоть, вместо того чтобы броситься вперед, откинулся назад на подушку, вперив в пустоту глаза, тяжело дыша и умоляюще сложив на груди руки. Графиня подала знак, и державшие Уильяма слуги вышли, встав у входа в палатку, чтобы вернуться по первому зову.