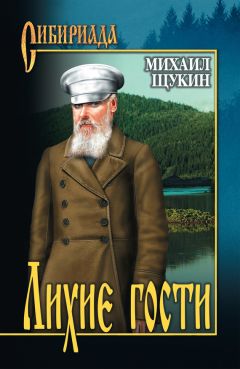Было о чем подумать. Дав слово Луканину и согласившись приглядывать за строительством постоялого двора, Артемий Семеныч обещание свое строго выполнял и сруб плотники уже подвели под стропила. Теперь требовалось пилить тес и крыть крышу. Дом получался крепкий, просторный, хоть на телеге по нему катайся.
Но эти дела, связанные со строительством, не слишком обременяли и нисколько не тревожили Артемия Семеныча, совсем иная забота неотвязно томила душу. Видел он, как мучается Анна, как изводится она в тревоге за своего исчезнувшего мужа, но помочь не мог. Луканин давно уже не появлялся в Успенке, Егорка жировал у Митрофановны на сытных харчах и ни о чем, похоже, не печалился. А Данила продолжал пребывать за Кедровым кряжем в руках у лихих людей, и как его оттуда вызволить – ума не приложишь.
Жалея дочь, любуясь на внука, который уродился до удивления похожим на деда, даже кудряшки вились на головенке, Артемий Семеныч и не заметил, как постепенно истаивала его прошлая злость и уступала место совсем другому чувству – напрочь, казалось бы, позабытой нежности. Даже о Даниле думал он теперь по-иному и больше уже не называл его суразенком.
– Тятя, – прервала его раздумья Анна, – я к Митрофановне хочу сходить, вдруг какая весточка подоспела.
– Сходи, если не терпится, – отозвался Артемий Семеныч, – я посижу с Алехой. Да мать там поторопи; что она, уснула?! Ужинать пора!
Анна, накинув платок на голову, торопливо вышла из дома, мигом добежала до избы Митрофановны и на крыльце, нос к носу, столкнулась с Егоркой. Тот, по всей видимости, навострился на вечерку. Отпрянул в сторону, хотел проскользнуть мимо, но Анна цепко ухватила его за рукав, сверкая глазами, из которых только что сердитые искры не сыпались, злым шепотом, будто гвозди вбила:
– Жируешь, кобель паршивый?! Тебя для этого послали?! Данила в неволе загинается, а ты харю наел, как у хомяка! Убью гада! Возьму ружье и ухлопаю!
Егорка пятился перед таким напором, выдергивал рукав из крепко сомкнутых пальцев Анны и, пугаясь невольно, верил безоговорочно: сунь сейчас ружье дуре бабе – пальнет, не раздумывая, столько в ней было исступленной ненависти к нему.
– Ты чего, Анна, чего, с коня упала?.. – заюлил Егорка, по-прежнему пытаясь высвободить рукав, но она держала его крепко, – я-то при чем, я его не умыкал…
– Эх ты, дерьмо на палочке! – Анна расцепила пальцы и так пихнула Егорку в грудь, что он чуть не загремел с крыльца, едва-едва на ногах удержался. Спрыгнул, минуя все ступеньки, на землю и шмыгнул в калитку – исчез, будто его корова языком слизнула.
Анна постояла перед закрытой дверью, хорошо понимая, что Митрофановна никакой весточки о Даниле не скажет, что будет лишь охать и ахать да советовать: ты, девка, надежду не теряй, молись хорошенько, зови его – явится…
Постояла, повернулась и пошла прочь.
Клочихины, когда она вернулась, садились ужинать. Анна присела вместе со всеми за стол, взяла ложку и, хлебая натомившиеся в печи щи, даже не замечала, что по лицу у нее текут и капают на столешницу крупные слезы.
Глядя на нее, все остальные смущенно молчали и ели в абсолютной тишине, словно на поминках.
После ужина без разговоров улеглись спать.
За ночь Анна несколько раз вставала, тетешкала плачущего Алексея, а когда он, успокоенный, засыпал, она долго еще не могла сомкнуть глаз, все прислушивалась к порывам ветра, который буйно разгуливал за стеной. И шептала, почти не размыкая губ, чтобы домашние не услышали: «Встаю я, раба божия Анна, перед дымным окном, и прошу я вас, двенадцать братцев, ветры ветрущие, вихоря вихорющие, северные и восточные, западные и полуденные, малые юноши, прошу я вас разыскать раба божьего Данилу и унести ему тоску мою тоскучую, горе мое горючее, чтобы из ума он меня не выпускал. Упадите, мои слова, в ретивое сердце, в горячую кровь, в ясные очи, в белые зубы. Если только слова мои на землю упадут, земля выгорай, а на лес – ветром сшибай!» Она сама не замечала, что переставляет и путает слова в заговоре, да и не важны были ей сами слова – она докричаться хотела, вырваться, пусть и мысленно, под ветер, свистящий на улице, и устремиться вместе с ним в неведомое место, где пребывал Данила.
– Данюшка! Отзовись! – безмолвно взывала Анна в ночную темноту.
Ответа ей не было.
Но Данила слышал ее голос.
Он звучал у него в памяти так явственно, словно она стояла рядом. И пока звучал голос Анны, силы не оставляли; Данила упорно налегал на постромки, с хрустом проламывал ногами снежную корку, волочил за собой длинные санки, на которых лежал завернутый в грязную холстину и обмотанный веревками труп Никифора. Следом, по протоптанному целику, неспешно брели Ванька Петля и Колун.
Синие тени все длиннее вытягивались по нетронутому насту, тащили за собой робкие сумерки, и только макушка дальней горы, за которую закатилось солнце, продолжала розово светиться. Небесный склон от этого свечения казался совсем темным, словно уже наступила ночь. Данила косил глазом на макушку горы и горько жалел, словно малый ребенок, что нет у него крыльев – взлетел бы сейчас над проклятой этой долиной, перемахнул через кряж, прямиком на зовущий голос Анны и оказался бы в Успенке, которая представлялась отсюда самым лучшим на земле местом… Дернулся рывком вперед, нога соскользнула, и он, не удержав равновесия, медленно и неуклюже завалился набок, запутавшись в постромках.
– Э-э-э, чего развалился! – сразу зашумел Ванька Петля. – не у бабы на перине! Вставай!
Данила освободился от постромок, отбросил их в сторону и перевернулся на спину. Отозвался со злостью:
– Не ори. Дай дух переведу.
Ванька снова закричал и даже побрел по снегу, намереваясь пинками поднять Данилу, но Колун его остановил:
– Погоди, сам встанет. И мы передохнем. Вон до тех кедров дотянем, и шабаш.
Отдышались, поднялись и медленно потащились дальше – к каменной гряде, у подножия которой щетинился острыми верхушками густой кедрач. В нем, забравшись поглубже, остановились на ночлег. Пока расчищали место для костра, пока рубили хворост, пока варили в котелке болтушку, сумерки переплавились в темноту, и она плотно встала за стволами деревьев. Макушка дальней горы погасла, на небе ярко проклюнулись первые звезды. Данила прилег на лапник, скрючился, подтянув к животу ноги, и сразу уснул, не дождавшись скудного ужина, – как в яму провалился.
Пробудился столь же внезапно, словно его в бок толкнули. Вскинулся, подняв голову и увидел над собой Млечный Путь; рассыпая звездную пыль, он уходил в неведомые дали и выси, разделяя небо на две неравные половины. Медленно и величаво плыла луна. Неверный, крадущийся свет заливал темный кедрач.