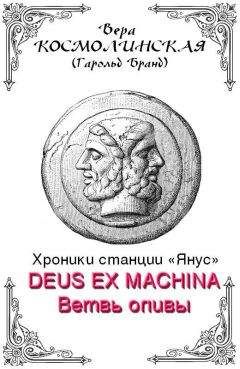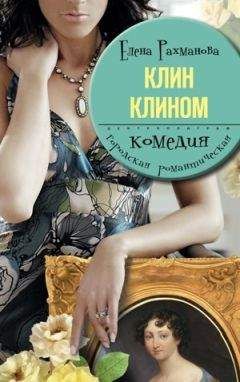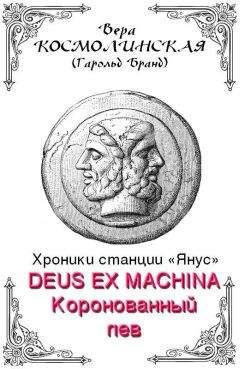Тем меньше и им дышать этим дымом, а заодно, пусть кто-то проследит за тем, чтобы ошалевшие нормальные люди не попытались совершенно не вовремя подпалить дом снаружи.
Мишель и Фонтаж чинно выпроводили лишних из зала — которые были и рады и напуганы даже этим, не понимая, что происходит, они спотыкались, шарахались, ахали и торопились одновременно. Наконец двери снова были закрыты.
— Да воцарится молчание ожидания! Молчание пред творением и благословением! — призвал я, так, как они привыкли. И их безмолвие было радостным. Сияющий Жиро зачерпнул большим черпаком адскую смирну и разлил ее в две больших чаши. — Настало время причастия! — Хранители зашумели, с каким-то подобием возбуждения поднимаясь со скамей и занимая свои места в очереди к чашам. — А теперь внемлите!.. — сказал я, когда первые уже успели пригубить напиток.
Я повторял одни и те же слова, снова и снова, по мере того как хранители, сменяя друг друга, с готовностью пили из чаш и их глаза превращались в свечном сумраке в мерцающие звезды. Мне не нужно было быть правдоподобным, мне не нужно было быть убедительным. За меня все делала смирна, нужно было только их молчание, чтобы они слышали все, что я нес. И они исправно молчали, так как это было в их привычке, и утопали в собственном упоении.
Я почти ничего не менял в их установках, только добавлял, расширял и уточнял их, трактовал по-своему, так, чтобы они хорошенько это запомнили. Объявил, что настал новый день, и им никого больше не нужно приводить к себе, так как эти люди придут сами, когда настанет их час, назначенный провидением и не раньше. Поведал, что они будут жить с необращенными бок о бок и помогать им, когда им будет позволено. Мной лично. Потому что я архангел божий. Своего бога они знают. Но не знают того, что есть и лже-бог, похитивший его облик и имя. Но скоро он падет, и мы вместе будем ожидать второго пришествия того, кто есть истина. Потому что он уже в пути.
Ничего особенного и разумного. Но у них не было выбора. Они мне верили. Вскоре я снял капюшон и дал им хорошенько себя рассмотреть, назвал свое мирское имя, и если раньше оно могло привести их в волнение, теперь они повторяли его с благоговением. Все, что я сказал им, они должны были передать своим братьям, которых не было здесь с нами, во всем Труа и за его пределами. Им не было причины не верить друг другу. Я посещу еще несколько служб в других домах и закреплю все сказанное. Завтра весь Труа будет моим, как был сегодня один этот дом.
Их безоговорочная вера, радостно откликающаяся, впечатляла и воодушевляла. Дым клубился и пьянил, и я начинал опасаться, что заговариваю уже и себя самого. Но Рауль уверял, что это безопасно, и я держался за эту мысль, и за мысль о том, что «я лгу».
Я внушил им, что подошедшую армию, которую я приведу, они должны встретить по-братски, потому что «они с нами», и разумеется, предупредил, чтобы они «береглись обмана» и не слушали больше никого. Как ведется с начала времен.
Так они снова становились обычными людьми. Одержимыми и неумными, направляемыми внушенными им противоречивыми идеями. Монолит будет разрушен, и братья будут воевать друг с другом. Дело сделано.
За окнами царила ночь. Ставни их сегодня не закрывали. Хозяин дома мог бояться чего угодно, но это не имело значения. А если что-то начнет происходить, лучше будет видеть это и слышать. Но пока нас окружало сплошное чернильное пятно, внутри которого метались тени и блики от камина. Сумрачно и мрачно. Как в кошмаре. Справедливости ради надо сказать, это и был кошмар.
— Этьен, я хочу напиться до зеленых чертей, — признался я.
— Неудивительно. — Фонтаж шевельнулся в своем кресле напротив. Это мы, называется, спали. Все равно слишком расслабляться не стоило, мы пребывали в полной боевой готовности. В последний раз мы так сидели с Огюстом в доме Колиньи перед Варфоломеевской ночью, с горой сваленного на столе оружия. Не одна резня, так другая. И так всю жизнь… и не одну — десятки. Но в самих этих минутах — напряженного затишья, есть что-то умиротворяющее, как пустота, из которой состоит большая часть вселенной. — Мы здорово поволновались, когда, после того как все кончилось, ты уверенно направился в ризницу, закрылся там и пропал с концами, не отвечая, когда мы звали. А наконец войдя, мы нашли тебя сидящим в углу почти в бессознательном состоянии, что-то бормочущим себе под нос. Подумали, что случилось что-то паршивое — надышался дымом или что-то выпил сам.
Как раз нет. Это уже казалось скверной идеей. Как бы ни налаживало физическое состояние. Но момент колебания — был. И дымом я все-таки надышался, и не был уверен, как он подействует в накладке на все уже выпитое.
— Мне просто надо было перевести дух, — ответил я уклончиво, так как Фонтаж, кажется, все еще ждал, что я как-то это объясню.
— Непохоже было, чтобы ты отдыхал. Но хорошо, что это быстро прошло, что бы это ни было, когда мы вытащили тебя на воздух. Переволновались, конечно, только мы с Мишелем. Жиро решил, что ты не иначе как разговариваешь с самим господом богом.
— Бедолага Жиро.
— Судя по всему, бывает и хуже, — рассеянно кивнул Фонтаж. — По-моему, тебе просто не нравится то, что ты делаешь.
— Чепуха. — Я медленно покачал головой — будто чугун и пух в одном свалявшемся комке. — Нравится. По крайней мере, дюжина человек не стала сегодня хранителями. А ведь их участь была уже решена. Капля в море, но тем не менее. Просто еще и целый ворох других тяжелых мыслей. О смысле жизни, как ни глупо это звучит…
— Может, это еще и страх? — негромко подсказал Фонтаж.
— Страх?
— Погубить свою душу. — «Потому что всякий, кто предложит это ближнему своему…» — я сам это говорил.
— Если бы только душу. После того, что я делаю, я бы сам себя убил. На всякий случай. Из предосторожности.
— Это радует, — невпопад сказал Этьен.
— Радует?
— Значит, ты совсем этого не заслуживаешь.
— И насколько, по-твоему, я искренен? Чтобы кто-то мог в этом поручиться? — Я пристально посмотрел на него в темноте. — Я бы сам ручаться не стал.
— Когда я говорил, что ты легко можешь убить кого-то из расчета, — после паузы проговорил Этьен, — я в первую очередь имел в виду тебя самого.
Чуть позже он вздохнул:
— Хотел бы я знать, — пробормотал он меланхолично, — что значит человек, душа, свобода выбора, если бывает, что никакого выбора нет?.. Какой тогда смысл в аде и рае?
— А ты когда-нибудь в них верил?
Он рассмеялся, как будто, приободрившись.
— И все же, если предположить, что они могли бы быть?
— Тогда, должно быть, Бог на небесах знает, когда выбор был, а когда его не было.