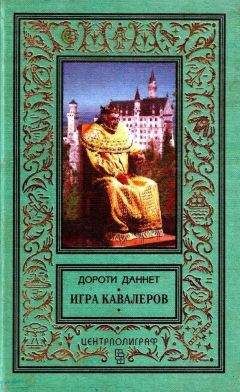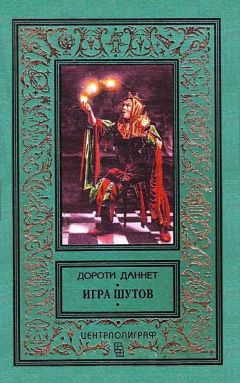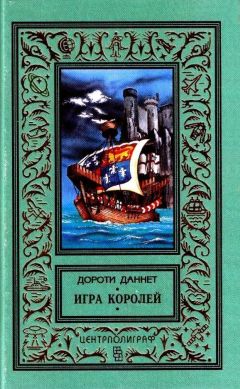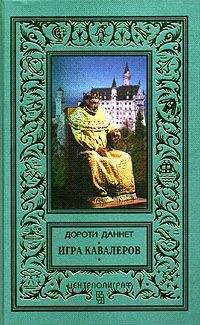О'Лайам-Роу даже на него не глянул. Его добродушное лицо, на котором отразились удивление и отвращение, было обращено к Терезе Бойл. Он разинул рот и попросту сел на пол, как только осколок приблизился к нему. Стекло просвистело у него над головой, чуть задев персиковые волосы, и Уна, несмотря на отчаяние, не смогла удержаться от смеха.
О'Лайам-Роу выронил меч и, ползая на четвереньках, шарил в поисках его. Тут госпожа Бойл вихрем ворвалась в комнату и нагнулась, чтобы перехватить клинок.
— Ну нет! — вскричала Уна О'Дуайер. — Нет, старая ведьма, сегодня мы обойдемся без тебя. — И, вцепившись в жесткие, как проволока, седые косы, стала тянуть старуху, словно утопленницу.
В этот момент вторично сверкнуло стекло, направленное в О'Лайам-Роу. Словно ножницы Атропос 29), зловещие среди поздних цветов в саду Жана Анго, острый осколок, опускаясь, перерезал толстую косу Терезы Бойл и впился ей в шею.
Раздавшийся крик, грубый и громкий, был подобен мужскому, а складки окутывающих ее простыней, разметавшихся на полу бесформенной массой, постепенно окрашивались алым. Все еще сжимая в руке разбитый графин, Кормак О'Коннор с разинутым ртом склонился над женщиной. Тем временем О'Лайам-Роу встал, отвернулся, побледнев, и бросился бежать. Когда он достиг двери, ведущей в гостиную, Кормак пришел в себя. Он ничего не сказал; столь сильным было потрясение, что проклятия и угрозы застряли у него в горле. Затем его охватила ярость. Словно человек, оскорбленный до глубины души, словно тот, кому воочию явились символы черной мессы, он протянул руку и, выдернув тяжелый меч из столешницы с такой легкостью, будто то была бумага, бросился на безоружного О'Лайам-Роу.
Уна поднялась с каменным выражением лица и, оставив упавшую женщину, метнулась к О'Коннору и вцепилась ему в руку; не глядя он отшвырнул ее, словно шавку. Когда она с грохотом ударилась о стену, руки О'Лайам-Роу задвигались.
То была всего лишь небольшая праща, и камень тоже маленький, круглый, серебристый, согретый в его кармане. Но метание из пращи было старинным искусством, утраченной традицией, тем утонченным необязательным знанием, к какому только О'Лайам-Роу и мог проявить интерес, сноровкой, которую только он счел нелишним приобрести. Пухлыми, неловкими пальцами, которыми он, как правой рукою, так и левой, мог расщепить натянутую волосинку, принц Барроу установил камешек, поднял пращу и пустил его.
Первый камешек попал О'Коннору в рот, разбив полные губы: словно колонны рухнувшего храма посыпались зубы. Второй ударил в середину круглого наморщенного лба, и О'Коннор повалился, словно срубленное дерево, — так падает могучий дуб, ломая молодые деревца, кустарник и подлесок. Вжавшись в стену, Уна не сводила с него глаз.
Заглушая хриплые стоны старухи, О'Лайам-Роу, задыхаясь, сказал:
— Не бойся. — Затем откашлялся, вздохнул и, подойдя ближе на негнущихся ногах, провел грязной рукой по волосам. — Он не умрет.
На побледневшем лице молодой женщины светлые глаза казались почти черными.
— А если и умрет?
Не отвечая на вопрос, все еще тяжело дыша, он проговорил:
— Нужно помочь женщине.
Она по-прежнему смотрела на него, не двигаясь с места.
— Ей уже нельзя помочь.
— Это необходимо было совершить… Но пока я еще не знаю — свершилось ли это.
— Свершилось, — подтвердила Уна О'Дуайер.
Старая женщина на полу застонала и затихла.
На овальном лице принца Барроу не было и тени улыбки.
— Двадцать лет моей сознательной жизни я проклинал таких, как он, семью проклятьями. Но он по-своему победил. Триумф жестокости над культурой, силы над разумом… Я вышел на те перекрестки, которых ты боялась. Возможно, это верная дорога, а может, первый шаг на легком пути, ведущем к гибели.
— Может быть. Нам не дано знать до Судного дня.
Она прошла мимо, как всегда далекая, похожая на персонаж ночного кошмара: бледная, со струящимся водопадом черных волос, в запятнанной кровью порванной сорочке, что волочилась по полу. У порога она повернулась и посмотрела Филиму в глаза.
— Дверь черного хода открывается бесшумно, и ее не сторожат. Иди быстрее, скоро рассвет.
Он подошел к ней, но не слишком близко.
— Я не оставлю тебя с ними.
Уна повернула голову. Окровавленный, встрепанный, вытянувшись, словно бык на вертеле, Кормак лежал посреди разоренной комнаты. У его ног распростерлась старая женщина, прижав сильные руки к затылку.
— Пора уходить, — сказала Уна. — И я должна пойти своей дорогой. Отныне ты ничего не услышишь обо мне и не станешь меня искать. Такова моя цена.
Он помолчал, затем решительно просил:
— За что же я плачу, mo chridhe? [36]
Но он знал, за что заплатить своим неведением — за имя, которого добивался, за имя человека, что служит лорду д'Обиньи, имя это спасет и Лаймонда, и королеву.
Она назвала это имя и посмотрела на О'Лайам-Роу с состраданием.
— Оставь меня, будь добр, уходи. Тела моего ты не хочешь, а мысли мои будут принадлежать тебе. Перед тобой верная дорога, и не стоит стыдиться, что пришлось взломать дверь. Только жестокость могла разлучить меня с этим человеком, и жестокость, разъединившая нас, была силой, родившейся в тебе; сегодня тебе пришлось выполнить грязную работу, но тебя ждут и благородные дела.
Ее холодные руки лежали в его ладонях. Всматриваясь в лишенное выражения лицо, он спросил:
— Мы когда-нибудь встретимся?
— На закате ночи, по ту сторону северного ветра, — ответила Уна. — Люби меня.
— Всю мою жизнь, — сказал Филим О'Лайам-Роу, принц Барроу, переходя на язык своей страны. — Дорогая незнакомка, возлюбленная супруга моей души — всю мою жизнь.
Он отпустил ее руки и побрел, ничего не видя перед собой.
«Его зовут Артус Шоле — другого приспешника лорда д'Обиньи, — вот что сказала Уна О'Дуайер. — Он из пригорода, опытный канонир, в свое время сражался под командованием тех, кто больше платил. Он не появится в Шатобриане, пока не получит работу. Но он живет неподалеку. Поезжай по дороге на Анжер, в Оберж-де Труа-Марье, спроси Жоржа Голтье и скажи ему, чего ты хочешь».
Туманным июньским утром темный Шатобриан хранил тишину. Стук копыт одинокой лошади, приглушенный расписными ставнями, прогрохотал по булыжнику и стих.
Никто не видел, как уехал О'Лайам-Роу. Он не стал тратить время на то, чтобы разыскать Доули, который свернулся на соломе в темной комнате, наблюдая за светлеющим небом. На другой улице, в пышных апартаментах, почивал лорд д'Обиньи, готовясь проснуться свежим и безмятежным, чтобы пожать наконец плоды своих трудов. Англичане, придворные и слуги, изнуренные жарой и дипломатией, лежали в комнатах и квартирах, гостиницах и амбарах по всему Шатобриану. В Новом замке под сенью трех флагов — Шотландии, Англии и Франции — спал Нортхэмптон, удобно расположившийся и всем довольный. Французский двор — король, королева, коннетабль, де Гизы, Диана — часы, предназначенные для сна, рассматривал как часть давно заученного и привычного ритуала.